Философия и поэзия - [3]
Все это возвращает высказанному слову изначально присущую ему способность — способность называния. С помощью называния что-то постоянно вызывается к наличествованию. Хотя как таковое отдельное слово, взятое вне его контекстуальной определенности, никогда не может вызывать к жизни смысловое единство, которое производится лишь речью в целом. И даже когда — как в современной поэзии — единство образного представления разрывают, вообще отказываясь от описательности ради неожиданной полноты отношений чего-то несвязанного и неоднородного, встает вопрос: что, собственно, означают слова, с помощью которых здесь нечто называют? Что при этом называется? Очевидно, что современная лирика является преемницей барочной поэзии, но она лишена той общей изобразительной и образовательной традиции, которая имелась в эпоху барокко. Как из звуковых фигур и обрывков смысла может строиться целое? Вот что делает poésie pure герметичной.
Герметичность такой лирики в конце концов совершенно необходима в эпоху средств массовой коммуникации. Ибо как иначе слово может вырваться из потока сообщаемого? Как иначе может оно сосредоточиться в себе, если не отстраняясь от привычного речевого ожидания? Соседство словесных блоков постепенно образует структурное целое, и при этом проступают контуры каждого из использованных блоков. Дело заходит так далеко, что при оценке современных стихотворений кое-кто вообще отклоняет требование смыслового единства речи как неуместное. И отклоняет, добавлю, совершенно напрасно. Там, где осуществляется речь, единство смысла неупразднимо. Но это единство сложным образом сгущается. Теперь как бы нет нужды действительно иметь перед глазами «вещи», данные посредством называния, поскольку последовательность слов не преобразуется в непрерывную последовательность мыслей и не растворяется в единстве созерцания. И все же из напряженности словесного поля, из напряжения звуковой и смысловой энергии, сталкивающихся и меняющихся слов, строится целое. Слова вызывают созерцания, громоздящиеся друг на друга, перекрещивающиеся, упраздняющие одно другое, и тем не менее — созерцания. В стихотворении ни одно слово не подразумевает того, что оно значит. Но одновременно оно как бы возвращается к самому себе, тем самым удерживаясь от соскальзывания в прозу со свойственной ей риторикой. Таково притязание и таково оправдание poésie pure.
Понятно, что poésie pure как предельный случай дает возможность описать и другие формы поэтической речи. Есть целая шкала возрастающей переводимости — от лирической поэзии через эпос и трагедию (последняя есть частный случай перехода к зримости, metabasis eis allô genos) к роману и к взыскательной прозе. Во всех этих случаях стабильность произведения поддерживается не только вышеназванными языковыми средствами. Есть еще художественное чтение, есть сценическая постановка. Или же имеется рассказчик, или автор, который, подобно оратору, говорит в процессе письма. В силу этого и степень переводимости во всех этих случаях соответственно выше. Даже в пределах лирического жанра есть такие формы, как романс, который стилистикой пения, строфикой, припевом роднится с песней, или политическая поэзия, пользующаяся всеми перечисленными риторическими формами и еще рядом других. Однако определяющей и в случае всех этих языковых явлений остается poésie pure как чистый случай, причем определяющей настолько, что лирический романс, например, в редких случаях допускает плавный переход в область музыки и меньше всего тогда, когда он максимально самодостаточен (в языковом отношении). В этих случаях романс, говоря словами Гельдерлина, в такой мере обладает собственным «звучанием», что уже не поддается переложению ни на какую-либо другую мелодию. Этот критерий пригоден даже для политической поэзии. Причем пригоден в полной мере. Ибо благонамеренность военной или революционной поэзии явным образом отличает ее от всего того, что является «искусством», и отличает как раз благодаря плотности поэтической формы, которая не ухватывается простой благонамеренностью. В этом же причина синхронности поэзии разным историческим эпохам, ее способности просачиваться сквозь целые эпохи, ее непрерывного обновления и возрождения по прошествии времени. С отмиранием всех особенностей современной ему жизни (а в случае древнегреческой трагедии оставшись без музыкального и хореографического сопровождения) чистый текст продолжает жить благодаря тому, что является самодовлеющей языковой формой.
Но какое отношение сказанное имеет к философии и к близости поэзии и мысли? Какую роль в области философии играет язык? В соответствии с тем же феноменологическим основоположением — брать за основу рассмотрения предельные случаи — разумным будет в качестве предмета рассмотрения взять диалектику, прежде всего в ее гегелевской форме. В этом случае мы, естественно, имеем дело с совершенно иным способом дистанцирования от обыденной речи. Угроза проникновения в язык понятия исходит теперь не от прозаической речи, но от логики предложения, которая вводит в заблуждение. Выражаясь языком Гегеля, «форма предложения не годится для выражения спекулятивных истин». Содержание этого высказывания Гегеля затрагивает отнюдь не только специфику его диалектического метода. Напротив, оно выявляет общую черту любого философствования, по крайней мере со времен платоновского «поворота к Logoi». Собственно, диалектический метод Гегеля — лишь особая разновидность философствования. Общая предпосылка любого философствования следующая: философия как таковая не располагает языком, соответствующим ее подлинному назначению. Правда, в философской речи, как и в любой другой, неизбежны форма предложения, логическая структура предикации, подчинение предиката субъекту и т. д. Это создает обманчивую видимость, что предмет философии дан и познается так же, как наблюдаемые предметы и протекающие в мире процессы. Философия, однако, вращается исключительно в сфере понятия — «в идеях, с помощью идей, в направлении идей» (Платон. Государство VI 511 с). Взаимоотношения понятий не поддаются экспликации посредством «внешней» рефлексии, которая нацеливается на понятие субъекта извне, с той или иной случайно взятой «точки зрения». Как раз Гегель из-за произвольности подобного подхода, когда то или иное качество вменяется субъекту в процессе предикации, назвал эту «внешнюю рефлексию» «софистикой восприятия». Философия, напротив, существует в сфере спекуляции, в сфере взаимного отражения мыслительных определений, в которой предметное мышление движется и артикулируется в себе самом. В себе самом, то есть в понятии, в подразумеваемой в мышлении тотальности и конкретности, которые суть бытие и дух. Гегель считал диалог Платона «Парменид» величайшим произведением античной диалектики потому, что в нем Платон доказал невозможность определить идею саму по себе, в ее отдаленности от идей в их целостности, И Гегель ясно понимал, что аристотелевской логике определений как инструменту классификации постигнутого в понятии опыта положены границы в области собственно философских принципов: эти принципы первичны, неклассифицируемы, хотя и поддаются рефлексии — только рефлексии другого рода, которую он вместе с Платоном называл noys. Эти «первые», самые фундаментальные трансцендентальные мыслительные определения, превосходящие пределы любой ограничиваемой предметной области, при всем их многообразии образуют единство. Все такого рода определения Гегель метко обозначает одним словом: «категория». Все они являются «определениями абсолютного», а не определениями предметов и предметных областей в духе аристотелевской классификаторской логики (в соответствии с которой сущность предмета определяется через родовое понятие и видовое отличие), но в буквальном смысле слова «choros» категории являются границами, чем-то полагающим пределы. Категории являются разграничениями, отделяющимися друг от друга в тотальности понятия и только в совокупности являющими истину понятия в целом. Подобные основоположения в самих себе отражают снятие своего собственного полагания. Они носят название спекулятивных принципов, рефлексивных принципов и, как в известном изречении Гераклита, выражают в противоположном единое единственным образом. Они придают мысли прочную основу, обнаруживают ее в любом проявлении, делая ее рефлексивной «в себе». Таким образом, язык философии есть язык, который «снимает» себя самого, язык, который не говорит ничего и одновременно стремится сказать все.

Текст печатается по: Hans-Georg Gadamer. Heidegger und die Griechen.//AvH Magatin. 1990. № 55. S. 29-38.

В сборнике представлены работы крупнейшего из философов XX века — Ганса Георга Гадамера (род. в 1900 г.). Гадамер — глава одного из ведущих направлений современного философствования — герменевтики. Его труды неоднократно переиздавались и переведены на многие европейские языки. Гадамер является также всемирно признанным авторитетом в области классической филологии и эстетики. Сборник отражает как общефилософскую, так и конкретно-научную стороны творчества Гадамера, включая его статьи о живописи, театре и литературе.
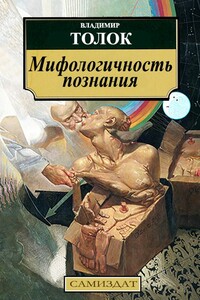
Жизнь — это миф между прошлым мифом и будущим. Внутри мифа существует не только человек, но и окружающие его вещи, а также планеты, звезды, галактики и вся вселенная. Все мы находимся во вселенском мифе, созданным творцом. Человек благодаря своему разуму и воображению может творить собственные мифы, но многие из них плохо сочетаются с вселенским мифом. Дисгармоничными мифами насыщено все информационное пространство вокруг современного человека, в результате у людей накапливается множество проблем.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Михаил Наумович Эпштейн (р. 1950) – один из самых известных философов и теоретиков культуры постсоветского времени, автор множества публикаций в области филологии и лингвистики, заслуженный профессор Университета Эмори (Атланта, США). Еще в годы перестройки он сформулировал целый ряд новых философских принципов, поставил вопрос о возможности целенаправленного обогащения языковых систем и занялся разработкой проективного словаря гуманитарных наук. Всю свою карьеру Эпштейн методично нарушал границы и выходил за рамки существующих академических дисциплин и моделей мышления.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.

Гений – вопреки расхожему мнению – НЕ «опережает собой эпоху». Он просто современен любой эпохе, поскольку его эпоха – ВСЕГДА. Эта книга – именно о таких людях, рожденных в Китае задолго до начала н. э. Она – о них, рождавших свои идеи, в том числе, и для нас.