Филологические сюжеты - [5]
Эти стихии творчества представляют у Пушкина диапазон от первобытных природных в собственном смысле стихий до исторических и духовных сил и целых культурных миров, также требующих борьбы и одоления, заклинания, каковы в особенности сложившиеся блестящие, как говорит о них Григорьев, европейские идеалы, с которыми «мерялся силами» наш поэт (Байрон, Фауст и т. д.) – но и родные начала тоже: Пугачёв и Белкин как полюсы русской жизни – тоже стихии творчества.
За драматизацией картины следует её мифологизация. Когда теоретики символизма станут в начале нашего века выкликать Орфея как имя, благословляющее их движение, Вячеслав Иванов даст ему в статье 1912 г. определение, почти повторяющее григорьевское о Пушкине: «заклинатель хаоса и его освободитель в строе».[25] Как для Вячеслава Иванова, так и для Аполлона Григорьева, как в Орфее, так и в Пушкине, определение говорит о магической силе поэта, покоряющей и цивилизующей в случае первопоэта древнего прежде всего стихии природные и хтонические (Аид), в случае первопоэта русского как «культурного героя Нового времени»[26] – прежде всего исторические и культурные. Но и первоначальные также в их причастности к человеческой истории и вечной с нею борьбе: как Орфей в походе аргонавтов усмирял волны, так Пушкин в «Медном Всаднике» их заклинал, а в двух строках:
– дал весь объём своего стихийно—культурного космоса и своей поэтической личности, в том числе и как «певца империи и свободы», по Г. П. Федотову. Две пейзажные строки в завязке «Медного Всадника» заключают в себе всю драму поэмы, потому что живой человек (Евгений) гибнет, как между этими двумя строками, между стихиями волны и камня – державного города. Но та же пушкинская парадигма стихии и порядка, «натиска» (оппозиции по—европейски, бунта по—русски) и «отпора» работает у него на другом материале и в ином оценочном освещении – там, где он заинтересованно наблюдает чуждые русской жизни пружины европейской парламентской демократии:
Помянутый уже Леонтьев любил цитировать это – но не как определение английского парламентаризма, а как формулу пушкинской гармонии, которую он видел как гармонию гераклитова типа – гармонию поэтической борьбы, а не мирного унисона; приписывание такой гармонии мирного унисона Пушкину он и оспаривал в речи Достоевского.
Аполлон Григорьев описывал пушкинские стихии, ведущие за поэта и с ним борьбу, как «силы страшные, дикие, необузданные», готовые растерзать.[27] В точности так, как был растерзан Орфей вакханками.
Если теперь вернуться к стихотворению «В начале жизни школу помню я…», то можно и его рассматривать как парадигму к григорьевской формуле. «Пушкин выносил в себе всё», – писал Григорьев.[28] Он выносил в себе со времён лицейской юности и кумиров сада, «двух бесов изображенья», чтобы болдинской осенью их заклясть как творческую стихию своей поэзии. Но как заклясть? В стихотворении вопрос не решён и выбор не сделан, отрок смущён и как бы раздвоен. Отрок – меж двух огней, на растерзании, он заклял их как бесов, но только создал тем напряжение, остающееся неразрешённым. Как заклясть поэтически? Это в силах не отрока, а поэта. В его силах подняться над ярким чувственным впечатлением и ввести его в духовный горизонт; организовать во внутреннем мире встречу миров исторических – двух культурных эонов – и взвесить спор, не решая его.
Так он в болдинском стихотворении заклинал мировые духовные силы. И тогда же в болдинской поэме – грозные силы родной истории, пробуждающиеся в самом поэте. Это у Пушкина редкое место, где внутренний механизм овладения и заклятия обнажён – XI–XII строфы «Домика в Коломне».
Высокий каменный дом вырос на месте сметённого цивилизацией домика в Коломне, и вот какое мстительное чувство давить приходится. О связи этого места с разбойно—пожарно—революционными мотивами русской литературы мне случалось писать:[29] непосредственно вспыхнувшее переживание автора сродни пугачёвской стихии русского бунта и способно смыкаться с ней; в движении литературы оно отзовётся пожарными сценами «Бесов» (уже не Пушкина – Достоевского), а в потенции поведёт к «мировому пожару» Блока, отдавшегося, по его признанию, стихии в своей поэме. Запирайте етажи… – обращено ведь как раз к высоким каменным домам. Так что странное и внезапное грозное место в шутливой поэме уводит к большому контексту – не только пушкинскому, но русскому историческому, и обнажает те самые, по Григорьеву, «сочувствия» и «борьбу». Как писал об этом месте «Домика в Коломне» Роман Якобсон, огонь, который тушит здесь в своей душе поэт, – это «огонь, с которым жила поэзия Пушкина».

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».

Что отличает обычную историю от бестселлера? Автор этой книги и курсов для писателей Марта Олдерсон нашла инструменты для настройки художественных произведений. Именно им посвящена эта книга. Используя их, вы сможете создать запоминающуюся историю.

Герой эссе шведского писателя Улофа Лагеркранца «От Ада до Рая» – выдающийся итальянский поэт Данте Алигьери (1265–1321). Любовь к Данте – человеку и поэту – основная нить вдохновенного повествования о нем. Книга адресована широкому кругу читателей.

Книга посвящена изучению творчества Н. В. Гоголя. Особое внимание в ней уделяется проблеме авторских психотелесных интервенций, которые наряду с культурно-социальными факторами образуют эстетическое целое гоголевского текста. Иными словами, в книге делается попытка увидеть в организации гоголевского сюжета, в разного рода символических и метафорических подробностях целокупное присутствие автора. Авторская персональная онтология, трансформирующаяся в эстетику создаваемого текста – вот главный предмет данного исследования.Книга адресована философам, литературоведам, искусствоведам, всем, кто интересуется вопросами психологии творчества и теоретической поэтики.
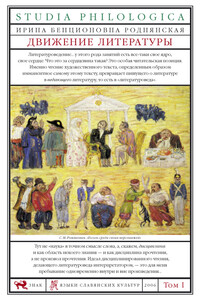
В двухтомнике представлен литературно-критический анализ движения отечественной поэзии и прозы последних четырех десятилетий в постоянном сопоставлении и соотнесении с тенденциями и с классическими именами XIX – первой половины XX в., в числе которых для автора оказались определяющими или особо значимыми Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Вл. Соловьев, Случевский, Блок, Платонов и Заболоцкий, – мысли о тех или иных гранях их творчества вылились в самостоятельные изыскания.Среди литераторов-современников в кругозоре автора центральное положение занимают прозаики Андрей Битов и Владимир Макании, поэты Александр Кушнер и Олег Чухонцев.В посвященных современности главах обобщающего характера немало места уделено жесткой литературной полемике.Последние два раздела второго тома отражают устойчивый интерес автора к воплощению социально-идеологических тем в специфических литературных жанрах (раздел «Идеологический роман»), а также к современному состоянию филологической науки и стиховедения (раздел «Филология и филологи»).

В книге рассмотрен ряд текстов Пушкина и Тютчева, взятых вне сравнительно-сопоставительного анализа, с расчетом на их взаимоосвещение. Внимание обращено не только на поэтику, но и на сущностные категории, и в этом случае жанровая принадлежность оказывается приглушенной. Имманентный подход, объединяющий исследование, не мешает самодостаточному прочтению каждой из его частей.Книга адресована специалистам в области теории и истории русской литературы, преподавателям и студентам-гуманитариям, а также всем интересующимся классической русской поэзией.
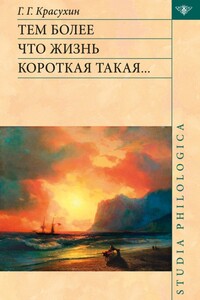
Это наиболее полные биографические заметки автора, в которых он подводит итог собственной жизни. Почти полвека он работал в печати, в том числе много лет в знаменитой «Литературной газете» конца 1960-х – начала 1990-х годов. Четверть века преподавал, в частности в Литературном институте. Нередко совмещал то и другое: журналистику с преподаванием. На страницах книги вы встретитесь с известными литераторами, почувствуете дух времени, которое видоизменялось в зависимости от типа государства, утверждавшегося в нашей стране.