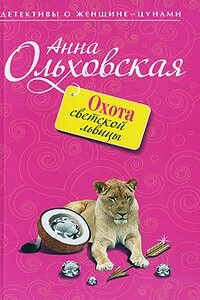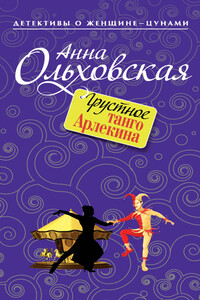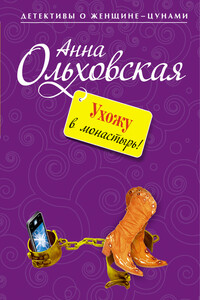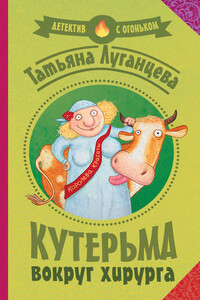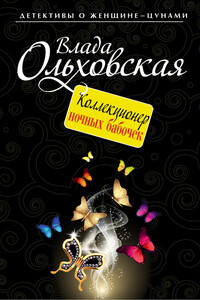Кувалда боли, обрушившаяся на меня, наведению порядка на чердаке сознания не способствовала совершенно. Поэтому первые минуты после возвращения я возмущалась и бухтела, правда, мысленно, поскольку говорить не могла. А кстати, почему это? И вообще, почему я снова в таком состоянии? Причем в совсем уж паршивом таком. Подобного со мной раньше не случалось. Всякое, конечно, бывало, но бомбу внутри меня еще не взрывали. А иных ассоциаций мое состояние не вызывало. Я что, шахидкой-смертницей с какого-то перепугу заделалась?
А потом меня накрыла вторая волна боли, но на этот раз душевной. Я вспомнила. Вспомнила ВСЕ.
Судя по перепуганным лицам медицинского персонала, пытавшегося образумить хрипящую и бесчинствующую пациентку, с подобным поведением в реанимации они еще не сталкивались. Дама, пробывшая две недели в коме после тяжелейшего пулевого ранения в грудь, так вести себя не должна! Она может жалобно постонать, к примеру, слегка пошевелить пальчиком правой или, на худой конец, левой руки, два раза икнуть, уронить радостную слезу возвращения – но и все!
Но срывать с себя провода и выдергивать иглы капельниц, куда-то рваться, хрипеть какие-то имена, выгибаться дугой, пытаясь отбиться, – это ужасно, моветон! Дикость какая-то! Немудрено, что опять сознание потеряла, да еще и едва послеоперационный шов не разошелся!
Зато к следующему моему возвращению основательно подготовились, вызвав группу поддержки в лице…
Впрочем, лиц было много: Хали, зареванная, но счастливая Таньский, Винсент и… Я еще не успела открыть глаза, когда на мои щеки легли маленькие теплые ладошки:
– Мамочка, не притворяйся, ты уже проснулась!
– Ника, – прошептала я, даже не пытаясь удержать слишком шустрые слезы. Пусть текут, не хочу на них силы тратить. – Здравствуй, солнышко!
И открыла глаза. Чтобы утонуть в огромных дочкиных. Малышка наклонилась надо мной близко-близко, ее теплое дыхание шевелило ресницы. Ты в порядке, капелька моя, я вижу, я чувствую это! А где же…
Но бутылка ведь разбилась, а значит, мы не смогли. Очень хотелось спросить об этом у кого-нибудь из взрослых, но не хотелось тревожить дочь. Она ведь так старалась.
– Ты что творишь, вредина, – сквозь слезы улыбнулась Таньский, подходя к кровати. – Зачем умирать вздумала? А я как же? А все мы? А…
Закончить она не успела. За дверью послышался какой-то шум, возмущенный женский голос что-то доказывал на французском, топот, возня, странный стук, словно что-то или кто-то упал, вот дверь распахнулась, появилось колесо реабилитационной коляски, затем она, коляска, вкатилась целиком, а на ней…
– Лешка! – прошептала я. – Ты опять буянишь?
– Кто бы говорил!