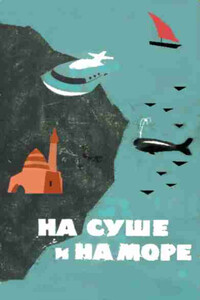Феноменология галлюцинаций - [3]
Молодого человека, состояние которого заметно улучшилось после острого психотического приступа, навестила в больнице его мать. Обрадованный встречей, он импульсивно обнял ее, и в то же мгновение она напряглась и как бы окаменела. Он сразу убрал руку. «Разве ты меня больше не любишь?» – тут же спросила мать. Услышав это, молодой человек покраснел, а она заметила: «Дорогой, ты не должен так легко смущаться и бояться своих чувств». После этих слов пациент был не в состоянии оставаться с матерью более нескольких минут, а когда она ушла, он набросился на санитара и его пришлось фиксировать
[Бейтсон 2000: 243]
Определяя эту ситуацию, Бейтсон далее пишет о шизофреногенной коммуникации в целом:
(1) Индивид включен в очень тесные отношения с другим человеком, поэтому он чувствует что для него жизненно важно точно определять, какого рода сообщения ему передаются, чтобы реагировать правильно.
(2) При этом индивид попадает в ситуацию, когда этот значимый для него другой человек передает ему одновременно два разноуровневых сообщения, одно из которых отрицает другое.
(3) И в то же самое время индивид не имеет возможности высказываться по поводу получаемых им сообщений, чтобы уточнить, на какое из них реагировать, т. е. он не может делать метакоммуникативные утверждения
[Бейтсон 2000: 234]
В этой ситуации шизофреник может реагировать тремя разными способами, соответствующими трем типам шизофрении. «Он может, например, решить, что за каждым высказыванием стоит какой-то скрытый смысл <…> он станет подозрительным и недоверчивым». Это проективно-паранойяльная реакция. Он может наоборот отнестись к высказыванию тотально несерьезно и реагировать на него смехом и кривлянием – гебефреническая реакция. Наконец он может вообще перестать отвечать и как-либо реагировать на выказывание, затаиться, «притвориться мертвым» – кататоническая реакция [Бейтсон: 236-237]. Но наиболее радикальная реакция это четвертая – экcтраекция, которая эквивалентна вырыванию учеником палки из рук учителя.
Бейтсон предусматривал и эту возможность: «…обращение к галлюцинациям позволяет испытуемому разрешить проблему, порожденную противоречащими друг другу командами» [Бейтсон: 249]. В чем же смысл того, что, когда даются два противоречивых высказывания, решение приходит в психотической реакции видения или слышания иллюзорных вещей? Можно было бы ответить в духе классического структурализма К. Леви-Строса и А. М. Пятигорского [Леви-Строс 1983, Пятигорский 1965], что экстраекция есть реакция мифологической нейтрализации, когда построение галлюцинаторного нарратива медиирует и тем самым обесценивает противоречивость предложенных шизофренику высказываний. Это будет правильным, но недостаточным объяснением. К тому же оно уведет нас далеко в сторону к юнгианскому пониманию природы психотического. Но это слишком легкий путь – мы по нему не пойдем.
Вернемся к концепции Грегори Бейтсона и его коллег. Говоря о неразличении уровней коммуникации, он ссылается на теорию логических типов Рассела. То есть он говорит о том, что шизофреник не в состоянии проделать ту процедуру, которую Рассел применяет к противоречивому высказыванию типа «Лжец говорит „Я лгу“», чтобы снять его парадоксальность логическим путем. Суть решения Рассела в том что, как это в афористической манере выразил Витгенштейн, «ни одна пропозиция не может свидетельствовать о самой себе, поскольку пропозициональный знак не может содержаться в самом себе» («Логико-философский Трактат», 3.332). Вот как сам Рассел излагает суть своей теории логических типов:
Проще всего проиллюстрировать это на парадоксе лжеца. Лжец говорит: «Все, что я утверждаю, ложно». Фактически то, что он делает, это утверждение, что оно относится к тотальности его утверждений, и, только включив его в эту тотальность, мы получаем парадокс. Мы должны будем различить суждения, которые относятся к некоторой тотальности суждений, и суждения, которые не относятся к ней. Те, которые относятся к некоторой тотальности суждений, никак не могут быть членами этой тотальности. Мы можем определить суждения первого порядка как такие, которые не относятся к тотальности суждений; суждения второго порядка – как такие, которые отнесены к тотальности первого порядка и т. д. ad infinitum. Таким образом, наш лжец должен будет теперь сказать: «Я утверждаю ложное суждение первого порядка, которое является ложным». Он поэтому не утверждает суждения первого порядка. Говорит он нечто просто ложное, и доказательство того, что оно также и истинно, рушится. Такой же точно аргумент применим и к любому суждению высшего порядка
[Рассел 1993: 25-26]
Таким образом, Рассел предполагает, что нормальный человек способен различать уровень высказывания и уровень метавысказывания. Бейтсон же полагает, что шизофреник это сделать не в состоянии, поскольку в ситуации двойного послания любая его интерпретация будет грозить ему психологическим санкциями со стороны собеседника, и соответственно фрустрацией, поэтому постоянная парадоксальная коммуникативная ситуация, в которой он находится, и ведет к расщеплению, шизофреническому схизису.
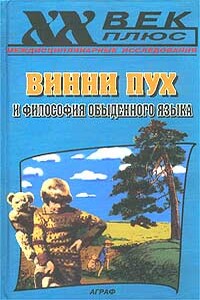
Книга впервые вышла в 1994 году и сразу стала интеллектуальным бестселлером (2-е изд. – 1996 г.). В книге впервые осуществлен полный перевод двух повестей А. Милна о Винни Пухе.Переводчик и интерпретатор текста «Винни Пуха» – московский филолог и философ В. П. Руднев, автор книг «Морфология реальности: Исследование по философии текста» (1996), «Словарь русской культуры: Ключевые понятия и тексты» (1997, 1999), «Прочь от реальности: Исследования по философии текста. II» (2000).Книга представляет «Винни Пуха» как серьезное и глубокое, хотя от этого не менее смешное и забавное, произведение классического европейского модернизма 1920-х годов.
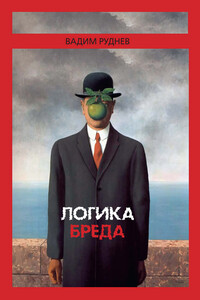
Книга известного российского философа и психолога Вадима Руднева посвящена осмыслению вопросов, связанных с построением логики бредовых представлений с позиций философии обыденного языка и психосемиотики, междисциплинарного подхода, который автор книги давно разрабатывает в своих исследованиях. Автор вводит ряд новых концептов, таких, как бессознательная наррация, согласованный бред и подлинный бред. Бессознательная наррация – это повествование, которое разворачивается помимо сознания его автора. Согласованный бред – это та реальность, в которой мы живем.
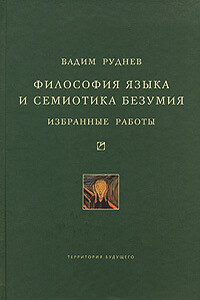
Вадим Руднев – доктор филологических наук, филолог, философ и психолог. Автор 15 книг, среди которых «Энциклопедический словарь культуры XX века» (переиздавался трижды), «Прочь от реальности: Исследования по философии текста» (2000), «Характеры и расстройства личности» (2002), «Божественный Людвиг. Витгенштейн: Формы жизни» (2002), «Словарь безумия» (2005), «Диалог с безумием» (2005).Настоящая книга представляет собой монографию по психосемиотике – междисциплинарной науке, включающей в себя психоанализ, аналитическую философию, теоретическую поэтику, семиотику, мотивный анализ – которая разрабатывается В.
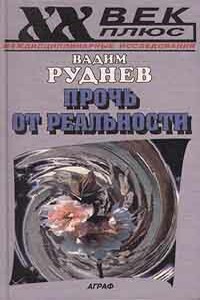
Книга русского философа, автора книг «Винни Пух и философия обыденного языка», «Морфология реальности», «Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты», посвящена междисциплинарному исследованию того, как реальное в нашей жизни соотносится с воображаемым. Автор анализирует здесь такие понятия, как текст, сюжет, реальность, реализм, травма, психоз, шизофрения. Трудно сказать, по какой специальности написана эта книга: в ней затрагиваются такие сферы, как аналитическая философия, логическая семантика, психоанализ, клиническая характерология и психиатрия, структурная поэтика, теоретическая лингвистика, семиотика, теория речевых актов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новая книга политического философа Артемия Магуна, доцента Факультета Свободных Искусств и Наук СПБГУ, доцента Европейского университета в С. — Петербурге, — одновременно учебник по политической философии Нового времени и трактат о сущности политического. В книге рассказывается о наиболее влиятельных системах политической мысли; фактически читатель вводится в богатейшую традицию дискуссий об объединении и разъединении людей, которая до сих пор, в силу понятных причин, остается мало освоенной в российской культуре и политике.

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена одному из влиятельнейших философских течений в XX в. — феноменологии. Автор не стремится изложить историю возникновения феноменологии и проследить ее дальнейшее развитие, но предпринимает попытку раскрыть суть феноменологического мышления. Как приложение впервые на русском языке публикуется лекционный курс основателя феноменологии Э. Гуссерля, читанный им в 1910 г. в Геттингене, а также рукописные материалы, связанные с подготовкой и переработкой данного цикла лекций. Для философов и всех интересующихся современным развитием философской мысли.

Занятно и поучительно прослеживать причудливые пути формирования идей, особенно если последние тебе самому небезразличны. Обнаруживая, что “авантажные” идеи складываются из подхваченных фраз, из предвзятой критики и ответной запальчивости — чуть ли не из сцепления недоразумений, — приближаешься к правильному восприятию вещей. Подобный “генеалогический” опыт полезен еще и тем, что позволяет сообразовать собственную трактовку интересующего предмета с его пониманием, развитым первопроходцами и бытующим в кругу признанных специалистов.

Данная работа представляет собой предисловие к курсу Санадиса, новой научной теории, связанной с пророчествами.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.