Феноменологическое познание - [35]
Сознанию в философской традиции Запада не повезло: им не занимались либо почти не занимались. Тематический круг проблем вращался вокруг осей теории сущего, теории веры или (позже) теории знания. Отдельные погружения в теорию сознания — у Августина, Скота Эригены, несравненного Абеляра — спорадичны и эксцентричны. Сознанием занялись позже, в связи с проблематикой знания, — и наткнулись на ряд неодолимых трудностей. Теперь, в обратной перспективе истории мысли отчетливо диагностируются симптомы бесконечных споров и разногласий; их корень — не в болезни языка, как думают позитивисты, а, скорее, в болезни сознания, которое, пресыщаясь знаниями, не способно было переваривать их в собирательном фокусе "со" знаний и оттого корчилось в муках бесплодных диспутаций и самоопровержений, плодя скептические отрыжки всяких "феноменализмов" и "релятивизмов". Здесь и средневековые споры о природе универсалий, и тяжба между рационализмом и эмпиризмом в Новое время, и целый клубок нераспутываемых "школьных безделушек" ("les bagatelles d'école", по выражению Декарта). Когда же, наконец, додумались до мысли, что, прежде чем решать вопросы о "до" или "после" универсалий, о природе сущего и о том, существует ли внешний мир, необходимо исследовать собственный ум со всеми его "умностями" и "заумностями", оказалось, что это — адски трудное занятие, по сравнению с которым все виртуозные метафизические головоломки выглядели сущим отдыхом. Груз знаний преградил путь к первоистокам знаний; сознание, обремененное "знаниями" ("знаниями" в кавычках, ибо надо было еще решить, что такое знание), лишило себя возможности самосознания, и локковское наваждение о "tabula rasa" оказалось дважды абсурдным: во–первых, чисто теоретически, так как сознание никогда (даже в состоянии обморока) не бывает пустым, и во–вторых, чисто симптоматологически, так как сама мысль о сознании как "чистой доске" была лишь одной из бесчисленных "нечистот", пятнающих эту доску под флагом традиционных унаследований, мыслительных привычек эпохи и, наконец, просто суммы прочитанных книг. В этой парадоксальной ситуации (моделируемой по парадигме: за деревьями не видно леса — за знаниями не видно сознания) и следовало бы искать ключ к историческим срывам мысли как в рационализме, так и в эмпиризме. Декарт, впервые в грандиозных масштабах осуществивший поворот мысли от природных тайн к тайне собственной природы, первый же не выдержал ее "чудовищной глубины" (выражение Гуссерля) и отождествил "Я" с мышлением (если ego, то cogito), одновременно и логизировав и психологизировав сознание. Тем самым были предначертаны пути антиномии рационализма и эмпиризма, где в первом случае прототипом сознания стала форма чистого логического понятия, а во втором случае сознание оказалось простым "пучком представлений". Reductio ad absurdum обоих путей разыгралась с безупречностью школьного силлогизма. Установив достоверность сознания фактом cogito, Декарт и последующий рационализм объективировали сознание с помощью его направленности на сущее, придя к выводу, что сущее познается априорно. Критика познания Канта внесла в этот вывод скромнейший корректив; пробужденный Юмом от догматической спячки, Кант показал не–сущесть самого сущего, так что сущее стало "вещью в себе", а априорное познание — познанием форм нашего мышления, т. е. логических понятий. Обобщить ситуацию выпало на долю Гегеля, но Гегель, согласный с Декартом в том, что мы мыслим сущее, не мог согласиться с Кантом в том, что сущее — "вещь в себе"; вывод напрашивался сам, и Гегель сформулировал его с виртуозной бесцеремонностью метафизика: если сущее познается в априорном познании, а в априорном познании познаются лишь понятия, то, стало быть, сущее и есть понятие, и кроме понятия нет никакого сущего, а есть лишь "подсвечник, стоящий вот здесь, и табакерка, лежащая вон там" [5]. Аналогичная участь постигла и эмпиризм: здесь сущее, познаваемое первоначально в чувственном опыте (Ф. Бекон), было, в конечном счете, к этому опыту и сведено. Фигура силлогизма оставалась той же: если сущее познается в опыте, а в опыте познаются лишь эмпирические состояния сознания, значит сущее и есть эмпирические состояния сознания [6].
В итоге, пытаясь за деревьями увидеть лес, лишь увеличили число деревьев.
Образовалась странная пропорция: рост знаний не просто опережал уровень осознания этих знаний, но и прямо тормозил его. Вне всякого сомнения, мало–мальски образованный человек сегодня обладает большими "знаниями", чем, скажем, Сократ, и ему, между прочим, известны такие греческие слова, какие и не снились "мудрейшему из эллинов": гомеостазис, изотоп, сфигмоманометр. Но задумается ли он когда–нибудь над этим своим "преимуществом", и если да, то до чего же додумается он? Поймет ли он, настигнутый мгновением благодатного апперцептивного света, что в "преимуществе" этом он ушел не дальше десятиклассника, хвастливо разглядывающего в зеркале первый несбритый пушок своей мужественности и самодовольно полагающего, будто "ус" может заменить ему "нус"? Знания–то есть. Но что есть эти знания? Прагматик–экспериментатор с шутливой миной отмахивается от вопроса; ему недосуг тратить время на то, что не под силу "думающей машине". Он прав; здесь действительно нужен досуг. Речь ведь идет всего лишь о сознании. Когда–то Локк объяснил его с наглядностью, не уступающей знаменитой парадигме биллиардного шара в классической механике. "Недоступные восприятию тела, — писал Локк, — исходят от вещей к глазам и через глаза посылают в мозг движение, производящее в мозгу наши идеи о телах"
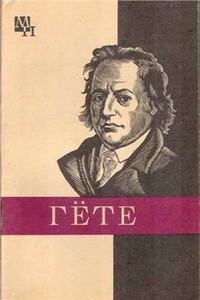
Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.

Лекция прочитанная в МГУ им. Ломоносова в 25 мая 2005 г. "Философии по большому счету, — нет. Исчезли философские проблемы. Философия была всегда последовательностью проблем, а сейчас этого вовсе нет. Все эти Деррида склонированы с Хайдеггера, которому принадлежит честь быть первым дезертиром западной философии. Великую и трагическую работу мысли более чем двух тысячелетий он свёл просто к какой-то аграрной мистике. Гуссерль именно этому ужаснулся в своем талантливом ученике. Хайдеггер — это что-то вроде Рильке в философии.

Если это диагноз, то путь от него ведет сначала назад к анамнезу и только потом уже к перспективам: самоидентификации или - распада. Немного острого внимания, и взору предстает картина, потенцируемая философски: в проблему, а нозологически: в болезнь. Что человек уже с первых шагов, делаемых им в пространстве истории, бьется головой о проблему своей идентичности, доказывается множеством древнейших свидетельств, среди которых решающее место принадлжеит дельфийскому оракулу "познай самого себя". Характерно, что он продолжает биться об нее даже после того, как ему взбрело в голову огласить конец истории, и сделать это там, где история еще даже толком не началась, хотя истории оттуда вот уже с полвека как задается тон.
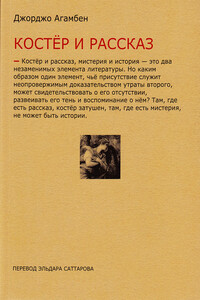
«Костёр и рассказ, мистерия и история – это два незаменимых элемента литературы. Но каким образом один элемент, чьё присутствие служит неопровержимым доказательством утраты второго, может свидетельствовать о его отсутствии, развеивать его тень и воспоминание о нём? Там, где есть рассказ, костёр затушен, там, где есть мистерия, не может быть истории…» Вашему вниманию предлагается вышедший в 2014 г. в Италии сборник философских эссе. В издании собраны произведения итальянского писателя Джорджо Агамбена в русском переводе. Эти тексты кроме эссе «Что такое акт творения?» ранее не издавались. «Пасха в Египте» воспроизводит текст выступления на семинаре по переписке между Ингеборг Бахман и Паулем Целаном «Давай найдём слова.

Во времена испытаний интеллектуалы, как и все люди, оказываются перед трудным выбором. В XX веке многие из них — кто-то по оппортунистическим и карьеристским соображениям, кто-то вследствие преступных заблуждений — перешли в лагерь фашистов или коммунистов. Соблазнам несвободы противостояли немногие. Было ли в них что-то, чего недоставало другим? Делая этот вопрос исходным пунктом своего исследования, Ральф Дарендорф создает портрет целого поколения интеллектуалов. На страницах его книги появляются Карл Поппер, Исайя Берлин, Р. Арон и Н. Боббио, Х. Арендт, Т. В. Адорно и Д. Оруэлл, а также далеко не похожие на них М. Хайдеггер, Э. Юнгер, Ж.-П. Сартр, М. Шпербер, А. Кёстлер и другие.

В новой книге автор Н. Мальцев, исследуя своими оригинальными духовно-логическими методами сотворение и эволюцию жизни и человека, приходит к выводу, что мировое зло является неизбежным и неустранимым спутником земного человечества и движущей силой исторического процесса. Кто стоит за этой разрушающей силой? Чего желают и к чему стремятся силы мирового зла? Автор убедительно доказывает, что мировое зло стремится произвести отбор и расчеловечить как можно больше людей, чтобы с их помощью разрушить старый мир, создав единую глобальную империю неограниченной свободы, ведущей к дегенерации и гибели всего человечества.
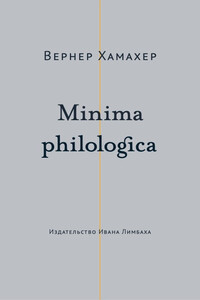
Вернер Хамахер (1948–2017) – один из известнейших философов и филологов Германии, основатель Института сравнительного литературоведения в Университете имени Гете во Франкфурте-на-Майне. Его часто относят к кругу таких мыслителей, как Жак Деррида, Жан-Люк Нанси и Джорджо Агамбен. Вернер Хамахер – самый значимый постструктуралистский философ, когда-либо писавший по-немецки. Кроме того, он – формообразующий автор в американской и немецкой германистике и философии культуры; ему принадлежат широко известные и проницательные комментарии к текстам Вальтера Беньямина и влиятельные работы о Канте, Гегеле, Клейсте, Целане и других.

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.
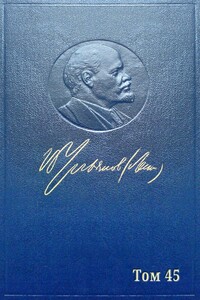
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.