Феноменологическое познание - [14]
Досократическая мысль не открывает, а завершает этот процесс. Анонимный по самому своему существу, он здесь впервые претерпевает стадию персонализации и, следовательно, кризиса. История философии начинается с имен философов; имя же, мифически тождественное личности [21], символизирует не что иное, как начало усвоения мысли и даже ее присвоения. Мысль, безначальная и безымянная, "безмолвная глубина" гностиков, опалившая Паскаля ужасом "вечного молчания" ("Le silence eternel de ces espaces infinis m'effraye"), постепенно стягивается в каркасы притяжательных местоимений и становится "мыслью Фалеса" или "мыслью Анаксагора"; правда, укротить ее полностью не может еще досократик, и от действа ее сотрясаются мозги и составы, так что самопервейшая стадия усвоения отмечена, как правило, катастрофической пульсацией языка (also sprach Heraklit). Рассудок бессилен вникнуть в эту пульсацию, и вот, из почти полуторатысячелетней перспективы, греческого мудреца строго отчитывает почтенный профессор философии за неумение найти мысли адекватное выражение [22]. Это значит: Гераклиту следовало бы говорить не об "огне", а о "категориальных синтезах" (положим), но что же есть "категориальный синтез"', как не рассудочно–потухший кратер былого вулкана мысли! История философии, понятая симптоматологически, рисует нам все стадии этого потухания: от космически переживаемой мысли до мысли сугубо головной, от "умного места" мысли до "лобного места" ее, где, распятая во лбу ("высоком", как–никак!), она удостаивается чести стать "всеобщей и необходимой".
Но это потухание и есть reductio ad absurdum. Симптоматология познания — мартиролог мысли, или перечень стадий ее дискриминации: мыслящее тело (равное в греческой семантике, как мы уже говорили, личности и даже ее судьбе) [23] сжимается постепенно до мыслящей головы и монополизируется мозгом; теперь уже она не нуждается в перипатетике: ни выхоженность, ни тем более танцевальность не служат больше ей нормами; ее единственным критерием оказалась разможженность ("Vergehirnlichung", в транскрипции Макса Шелера).
Что же есть познание? Очевидно, что единого и универсального ответа на этот вопрос история мысли дать нам не может. Налицо ряд многоразличных решений, зачастую альтернативных, так что, говоря о "теории познания" (в единственном числе), мы в историческом смысле попросту имеем дело с чистейшей рассудочной химерой, лишенной конкретного предметного коррелята. Следовало бы говорить о "теориях познания", но и тут, прежде чем осмысливать собственно теоретическую специфику их множества, пришлось бы справляться с культурно–историческими предпосылками, лежащими в их основании. Физиогномика познания с неизбежностью предваряет всякий собственно теоретический анализ; предметом этой физиогномики должно стать выяснение эйдетического своеобразия каждого познавательного типа. Иначе говоря, дело идет υ вскрытии предпосылок, бессознательно фундирующих всякий строй познания; эта процедура отчасти нашла свое применение в учении Ф. Бекона об "идолах", учении, которое, к сожалению, не выдерживает правила двойной критики и само оказывается на поверку одержимым аналогичными идолами. На что опирается познание? — вот что необходимо исследовать прежде всего. Картина, по сути дела, однообразна: радикальная рефлексия по мере погружения в предмет выявляет цепную реакцию бессознательных клише и стереотипов. Познание опирается: во–первых, на опыт, во–вторых, на профессионально усвоенный инструментарий понятий и терминов. В-третьих, оно опирается на мыслительные привычки, свойственные данной эпохе. И в-четвертых (last, but not least), неисповедимую роль играют тут психологические особенности самого познающего. Можно было бы продолжить этот перечень, но удовлетворимся вышеозначенным. До чего же очевидно, что перечисленные предпосылки, как бы их ни оценивать по результатам, имеют отнюдь не универсальную, а лишь партикулярную значимость. Опыт? По что называем мы опытом? Опыт Плотина и опыт, с позволения сказать, Карнапа, равнозначные ли величины? Несомненно, что у Карнапа не могло быть и секунды серьезного отношения к опыту Плотина; для него это было не чем иным, как очередным проявлением шарлатанства. Что до Плотина, то о его возможной реакции на карнаповский опыт гадать не придется. Опыт — функция переменного значения; когда–то вполне естественным считался опыт мысли, т. е. сверхчувственный опыт; со времен английского эмпиризма и Канта о нем не желают и слышать, вколотив опыт без остатка в чувственность. А между тем на таком вот опыте и силились оправдать всеобщее и необходимое знание. Но если знание всеобще и необходимо, значит оно универсально и действенно во все времена. Как же в таком случае быть со временем Плотина, не считающим такое знание знанием вовсе? Или — беря одновременный пример — как быть со временем Гёте, весь феномен личности которого только и зиждется на сверхчувственном опыте, "научно" забракованном кантовской критикой познания? Здесь мы сталкиваемся со второй предпосылкой — с понятийно–терминологическим словарем, вплотную подводящем нас к проблеме так называемой "научности". Выше мы имели уже возможность подчеркнуть исторические превратности судеб этого словаря; общей участи понятий не избежало и понятие научности. Следует, прежде всего, подчеркнуть, что та "научность", с которой мы имеем дело, представляет собою вполне определенный и, следовательно, ограниченный
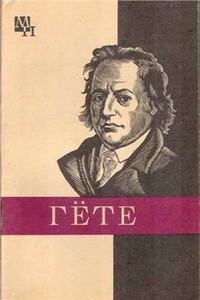
Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.

Лекция прочитанная в МГУ им. Ломоносова в 25 мая 2005 г. "Философии по большому счету, — нет. Исчезли философские проблемы. Философия была всегда последовательностью проблем, а сейчас этого вовсе нет. Все эти Деррида склонированы с Хайдеггера, которому принадлежит честь быть первым дезертиром западной философии. Великую и трагическую работу мысли более чем двух тысячелетий он свёл просто к какой-то аграрной мистике. Гуссерль именно этому ужаснулся в своем талантливом ученике. Хайдеггер — это что-то вроде Рильке в философии.

Если это диагноз, то путь от него ведет сначала назад к анамнезу и только потом уже к перспективам: самоидентификации или - распада. Немного острого внимания, и взору предстает картина, потенцируемая философски: в проблему, а нозологически: в болезнь. Что человек уже с первых шагов, делаемых им в пространстве истории, бьется головой о проблему своей идентичности, доказывается множеством древнейших свидетельств, среди которых решающее место принадлжеит дельфийскому оракулу "познай самого себя". Характерно, что он продолжает биться об нее даже после того, как ему взбрело в голову огласить конец истории, и сделать это там, где история еще даже толком не началась, хотя истории оттуда вот уже с полвека как задается тон.

"В настоящее время большая часть философов-аналитиков привыкла отделять в своих книгах рассуждения о морали от мыслей о науке. Это, конечно, затрудняет понимание того факта, что в самом центре и этики и философии науки лежит общая проблема-проблема оценки. Поведение человека может рассматриваться как приемлемое или неприемлемое, успешное или ошибочное, оно может получить одобрение или подвергнуться осуждению. То же самое относится и к идеям человека, к его теориям и объяснениям. И это не просто игра слов.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

Эта книга — сжатая история западного мировоззрения от древних греков до постмодернистов. Эволюция западной мысли обладает динамикой, объемностью и красотой, присущими разве только эпической драме: античная Греция, Эллинистический период и императорский Рим, иудаизм и взлет христианства, католическая церковь и Средневековье, Возрождение, Реформация, Научная революция, Просвещение, романтизм и так далее — вплоть до нашего времени. Каждый век должен заново запоминать свою историю. Каждое поколение должно вновь изучать и продумывать те идеи, которые сформировало его миропонимание. Для учащихся старших классов лицеев, гимназий, студентов гуманитарных факультетов, а также для читателей, интересующихся интеллектуальной и духовной историей цивилизации.

Занятно и поучительно прослеживать причудливые пути формирования идей, особенно если последние тебе самому небезразличны. Обнаруживая, что “авантажные” идеи складываются из подхваченных фраз, из предвзятой критики и ответной запальчивости — чуть ли не из сцепления недоразумений, — приближаешься к правильному восприятию вещей. Подобный “генеалогический” опыт полезен еще и тем, что позволяет сообразовать собственную трактовку интересующего предмета с его пониманием, развитым первопроходцами и бытующим в кругу признанных специалистов.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.

М.Н. Эпштейн – известный филолог и философ, профессор теории культуры (университет Эмори, США). Эта книга – итог его многолетней междисциплинарной работы, в том числе как руководителя Центра гуманитарных инноваций (Даремский университет, Великобритания). Задача книги – наметить выход из кризиса гуманитарных наук, преодолеть их изоляцию в современном обществе, интегрировать в духовное и научно-техническое развитие человечества. В книге рассматриваются пути гуманитарного изобретательства, научного воображения, творческих инноваций.