Федин - [4]
Вот из какого дома, из-под какой руки бежал Костя Федин. И со стороны пятнадцатилетнего подростка то был поступок. Схватка за право идти своим путем, быть личностью. Так позже оценивал события — «эту трагическую, по его определению, историю бегства из дома родительского» — сам писатель. Она, добавлял Федин, «мне представляется очень важным этапом в моем юношеском изначальном бытии».
Основательный и все более набиравший силу саратовский торговец Александр Ерофеевич Федин, убежденный приверженец принципов домостроя, сам многократно трепанный и битый жизнью, был человеком умным. Главное, как он считал, — изнанку происходившего, смысл и умысел людских слов и поступков умел различать верно.
Что у сына мутит душу и нет лада с коммерческими науками — об этом Александру Ерофеевичу говорили зачастившие домашние выходки, школьные тройки и четверки по поведению. Что тому не по нутру твердая отцовская рука, не дающая увильнуть с намеченной борозды, тоже было ясно. Однако Александр Ерофеевич не хотел терять единственного сына. А именно к этому шло… Отступаться же от своих планов в отношении сына тем более было не в его правилах.
Так или иначе, но во всем происшествии, после неблагодарного и скандального (если глянуть на события отцовскими глазами) побега из дома Александр Ерофеевич проявил вдруг много терпения и понимания юношеского сердца.
Это и объясняет подробности в чем-то, быть может, даже чуточку комической истории последующего возвращения Константина домой, что называется — водворения «блудного сына» под отчий кров.
Из Саратова Костя поездом приехал в Москву, где и обосновался. Дело происходило в полуподвальчике, служившем мастерской начинающему художнику. Это был давний Костин приятель, саратовец, двумя годами старше, переехавший теперь с родителями в Москву и готовившийся к поступлению в Строгановское училище живописи и ваяния. По словам приятеля, у Кости тоже был редкий живописный талант. Еще в Саратове они вместе делали копии с картин маслом и ходили на этюды. Теперь, очутившись в Москве, Костя тоже наметил на будущее карьеру живописца. Приятель одобрил мечту неожиданно объявившегося Кости и приютил его в своей мастерской.
Пока же Костя исполнял роль натурщика. Обязанности были простые. Натурщик старательно скучал, стоя на высоком березовом чурбаке в позе Наполеона или, вернее, в той позе, в какой, по их общему представлению, должен был бы стоять Бонапарт, окажись он в здешней мрачной комнате.
Одна рука Кости покоилась на груди, заложенная за борт черного форменного кителя ученика Саратовского коммерческого училища («сюртука императора»!), голова была горделиво откинута назад. Стоять так часами было муторно, да и просто трудно. Но он терпел — отрабатывал крышу над головой и харчи.
Будущая живописная знаменитость совсем погрузилась в свои красочные маракования, призванные воспроизвести великого императора в пору его триумфа, как вдруг широко распахнулась дверь. И в клубах морозного пара показалась, словно возникшая из других миров, страшно знакомая фигура. Волчий треух, лицо с заиндевевшей бородой, рыжий распахнутый полушубок. Отец!!
Они так и замерли, застыли на своих местах — незадачливый Наполеон и Будущая Живописная Знаменитость, которой ведь тоже могло здорово нагореть от собственных родителей, хорошо знавших почтенного Александра Ерофеевича, — за лживые объяснения и покрывательство бежавшего товарища.
Самое замечательное, что почти все дальнейшее происходило в молчании.
Александр Ерофеевич молча подошел к сыну, взял его за опущенную левую руку и свел с постамента. Затем, подождав, когда тот оденется, вывел его на улицу.
Некоторое время они без слов шагали по Большой Кисловке.
— Как мама? — первым спросил Костя.
— Лежит… Чай, не железная! — выговорил отец.
Это было самое большое угрызение, самый сильный укор. Он знал, что его побег тяжело отзовется на матери.
— Куда мы идем? — тем не менее собравшись и внутренне изготовившись, спросил Костя.
— Мы идем… мы направляемся… — глядя перед собой, повторил отец. — Ну, хошь в баню…
Это звучало двусмысленно, истолковать можно было и так и атак. Но оказалось сущей правдой.
Они пришли в банные номера первого разряда. И, перебираясь из мыльной в парилку и обратно, долго и с азартом плескались водой из шаек, терли друг другу спины, поддавали в раскаленное нутро каменки хлебным квасом из ковшика, хлестались на полке пахучими березовыми вениками, окатывались ледяной водой и начинали сызнова по кругу. Все это, впрочем, тоже без объяснений, почти без слов.
На улицу вышли оба розовые, легкие, обновленные. Баня, словно бы напомнив о физическом родстве, смыла взаимное озлобление. Все-таки они были одна плоть, самые близкие — отец и сын.
— И как ты? — уже на улице оглядел Костю Александр Ерофеевич. — Посветлело? Будто заново на свет родились, а? — Он слегка подтолкнул сына в бок. — Сказано: баня — вторая мать…
— Ну а теперь куда? — уже доверчивей спросил Костя.
— Давай поглядим, — предложил отец. — Скрипку-то куда подевал? — поинтересовался он.
— В ломбард заложил, — криво усмехнулся Костя.
— Та-ак!.. Значит, на живопись перекинулся? Тогда навестим, знаешь, что? Третьяковскую галерею. Братья Третьяковы, купцы, слышал? А вот тоже справили что-то на общую пользу. Давно собирался посмотреть. А теперь, раз сподобился, пойдем!
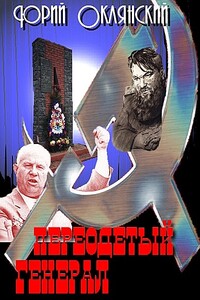
В майском номер «ДН» за 2007 г. была опубликована короткая мемуарная повесть Юрия Оклянского о знаменитом партизанском генерале и авторе гремевшей в свое время книги «Люди с чистой совестью» Петре Петровиче Вершигоре. «Людьми с чистой совестью» назвал Вершигора партизан, с которыми делил тяжелые рискованные походы. Через некоторое время автору пришло письмо от незнакомой ему читательницы, чей муж, как оказалось, имел самое прямое отношение к герою повести и к тому, что в ней рассказано. И стал разворачиваться новый сюжет…Казалось бы, прославленный партизанский командир, герой войны, генерал, к тому же знаменитый писатель.
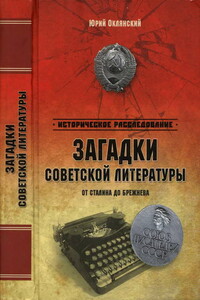
Советский классик Константин Федин в течение почти двадцати лет возглавлял Союз писателей СССР. Через судьбу «министра советской литературы» автор прослеживает «пульс» и загадки эпохи. Наряду с Фединым герои книги — М. Горький, И. Сталин, Л. Берия, Н. Хрущев, аппаратчики ЦК и органов безопасности, естествоиспытатель В. Вернадский, И. Бунин, А. Толстой, Е. Замятин, Стефан Цвейг, Б. Пастернак, А. Ахматова, А. Твардовский, А. Солженицын, а также литераторы более молодого поколения. Ю. Трифонов, любимый из учеников Федина, поэты А.
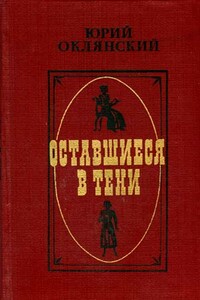
Книга Юрия Оклянского «Оставшиеся в тени» впервые объединяет под одной обложкой две биографические повести, получившие широкое признание читателей. Главных героинь «Шумного захолустья» и «Повести о маленьком солдате» роднят незаурядность натур и тот вклад, который они внесли в историю литературы и события эпохи. Частичная доработка произведений, осуществленная автором в настоящем издании, отобразила документальные материалы последних лет.
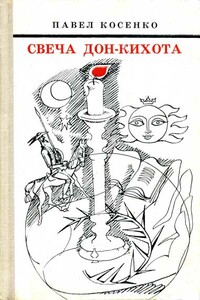
«Литературная работа известного писателя-казахстанца Павла Косенко, автора книг „Свое лицо“, „Сердце остается одно“, „Иртыш и Нева“ и др., почти целиком посвящена художественному рассказу о культурных связях русского и казахского народов. В новую книгу писателя вошли биографические повести о поэте Павле Васильеве (1910—1937) и прозаике Антоне Сорокине (1884—1928), которые одними из первых ввели казахстанскую тематику в русскую литературу, а также цикл литературных портретов наших современников — выдающихся писателей и артистов Советского Казахстана. Повесть о Павле Васильеве, уже знакомая читателям, для настоящего издания значительно переработана.».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Флора Павловна Ясиновская (Литвинова) родилась 22 июля 1918 года. Физиолог, кандидат биологических наук, многолетний сотрудник электрофизиологической лаборатории Боткинской больницы, а затем Кардиоцентра Академии медицинских наук, автор ряда работ, посвященных физиологии сердца и кровообращения. В начале Великой Отечественной войны Флора Павловна после краткого участия в ополчении была эвакуирована вместе с маленький сыном в Куйбышев, где началась ее дружба с Д.Д. Шостаковичем и его семьей. Дружба с этой семьей продолжается долгие годы. После ареста в 1968 году сына, известного правозащитника Павла Литвинова, за участие в демонстрации против советского вторжения в Чехословакию Флора Павловна включается в правозащитное движение, активно участвует в сборе средств и в организации помощи политзаключенным и их семьям.

21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.