Фазан - [5]
Однажды ночью прекратилась подача воды. Кран последний раз проскрипел «waste» и, захлебнувшись, умолк. Федор Филатович ушам своим не верил: наконец-то замолчал его враг! Счастье. Но оно длилось недолго. Счастье вообще не длится. Кажется, у Чехова в записной книжке сказано: счастье длится столько времени, сколько нужно, чтобы завести часы. Завели часы — и все.
Прислушавшись к темной, больной тишине, Федор Филатович с ужасом понял, что дело не в кране. Дело в его собственной жизни. Это она, его жизнь, уходит, утекает, как вода из крана. Этой утечки уже не унять. Берег крошки, корки, считал себя хозяином, а жизни своей не сберег.
Уходит жизнь. В мусор, отходы, ничтожество. И не только сейчас. Уже давно началась утечка. Болезнь только помогла ее осознать...
Когда же он упустил свою жизнь, единственную? В чем и когда ошибся? Если бы знать! Выздороветь и начать сначала. Пускай стар — никогда не поздно начать. Пускай даже не выздороветь — хотя бы понять себя перед смертью. Прожил жизнь, а себя самого так и не понял.
3
Чтобы понять, когда и с чего это началось, надо вспомнить свою жизнь с начала и до старости. Старики часто пишут воспоминания. Писать он не может. Он будет думать свои воспоминания. Про себя.
Память, конечно, уже не та. Связной последовательности не получается. Отдельные вспышки, зарницы. Между ними — провалы, мрак. Может быть, там вообще ничего не происходило? Не помнится — значит, не происходило. Неважно. Важно понять: когда?
Собственно говоря, такого момента, такого отчетливого перелома не было. Постепенно, исподволь менялась жизнь. Роясь в ней задним числом, можно было только различить два варианта: «еще нет» и «уже да». И то не с полной определенностью. Кажется, «уже да», а подумаешь — «еще нет»...
Сомнения прекращались, когда он вспоминал детство. Чистое, ясное «еще нет!». Счастье длящееся. Свет неомраченный. Даже кран при мыслях о детстве как будто затихал, стесняясь. Во всяком случае, звучал не так громко. Можно было ненадолго забыть о нем. Все чаще он стал искать этого прибежища.
Детство — самое раннее. Даже в его памяти не оставившее следа. Нет ни одного человека, помнящего его таким. Сохранилась фотография. Ему около года. Фотография давняя, дореволюционная, глянцевая, на твердом картоне. Мальчик в девчачьем платьице с кружевным воротником (так тогда одевали детей) сидит в креслице плотно, упористо, широко расставив ножки в белых вязаных башмачках (их, конечно, вязала мама, рукодельница. При мысли о маме укол в сердце, но об этом потом). Мальчик еще не умеет ходить, потому так девственно белы его башмачки. Круглое личико выражает безграничное доверие. Глаза широко открыты; вокруг них — сияние черных ресниц (так дети рисуют солнце). Глядя на эти ресницы, трудно поверить, что они настоящие, не приклеены. Впрочем, тогда ресниц не приклеивали.
Мама рассказывала: когда тот мальчик гулял зимой, на ресницах не таял снег. Для Федора Филатовича маленький Федя с фотографии был не он сам, а «тот мальчик». Он не чувствовал, между ним и собой никакой связи. Сегодняшнее его тело — поношенное, истаскавшееся, неподвижное, — и то пухлое, новенькое, невинное; неужели же это был один и тот же предмет, хотя бы измененный временем? Не может быть. Чистая случайность, что его с тем мальчиком звали одинаково, одним и тем же сочетанием букв.
Тот мальчик, говоря объективно, не просто красив — пленителен. Глядя на него, трудно не залюбоваться, не вздохнуть, не загрустить. Такая прелесть чрезмерна, она уже не радует, а ранит. Может быть, сознанием своей недолговечности? Растет человек, грубеет, потом стареет...
Федор Филатович, пока был на ногах, смотреть на эту фотографию не любил. Он вообще неохотно возвращался к прошлому. Не берег воспоминаний, не копил их, а вытряхивал. Не понимал, чем так восхищается Даша. Ну, сидит карапуз, расставив ножки, растаращив глаза. Только теперь понял, что она, бездетная, мечтала бы о таком сыне... А тогда — не интересовался. Не знал даже, почему у Даши никогда не было детей. Не хотела? Не могла?
Взглянуть бы сейчас на эту фотографию. Глянцевая, твердая, с золотыми медалями по низу. Теперь таких не делают — разучились. Нынешние снимки на фотобумаге выцветают, лохматятся, сворачиваются трубкой. Такой выцветшей, скатанной в трубку лежит где-то в письменном столе у него фотография Клавдии с двумя сыновьями. Широкое в висках, узкое к подбородку лицо с далеко расставленными, свирепыми глазами. Да, желтыми, жестокими были эти глаза. Взгляд так и искал в них вертикальную щель, кошачий зрачок. Фотография, конечно, этого не передает — намека на вертикальность. Клавдия просто сидит, прямая, чуткая, раскинув в стороны голые смуглые руки. Двое мальчиков стоят с двух сторон, прислонясь к матери, так, как их поставил фотограф. Пирамидальная композиция. Трогательная семейная группа. Но лица всех троих строги, отчужденны, лишены нежности. Клавдия мальчиков воспитывала по струнке, поблажек не давала. Оба похожи на мать, старший больше, младший — меньше, есть в нем что-то от «того мальчика»...
Где-то они сейчас, его сыновья? Поди, взрослые, женатые. И дети, поди, есть у них. Его внуки... Странно, он за всю жизнь не любил ни одного ребенка. Внуков бы он любил. А может быть, нет. Сейчас кажется, что любил бы.

Волнующее повествование о простой светлой русской женщине, одной из тех, на которых держится мир. Прожив непростую жизнь, героиня всегда верила во всепобеждающую силу любви и сама, словно светясь добротой, верой, надеждой, не задумываясь, всю себя отдавала людям. Большая любовь как заслуженная награда пришла к Верочке Ларичевой тогда, когда она уж и надеяться перестала...
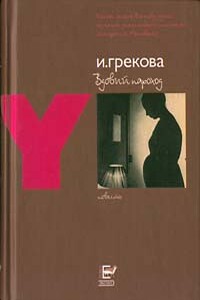
«Ничего я не знаю, не умею. И все же это была работа, а работать было необходимо, чтобы жить. А жить надо было непременно, неизвестно для чего, но надо! Никогда еще я не была так жадна на жизнь. Меня радовал, меня страстно интересовал мир со всеми своими подробностями: лиловым асфальтом улиц, бегучими дымами в небе, зеленой прошлогодней травой, лезущей из-под грязного снега грубым символом бессмертия...».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
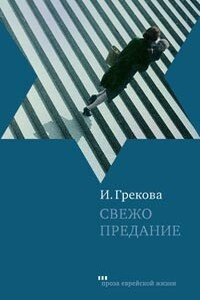
Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
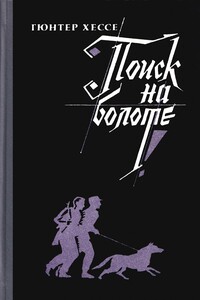
Повесть состоит из шести рассказов, объединенных общим сюжетом, связанным с использованием служебно-розыскных собак в задержании преступников. Автор увлекательно описывает приемы дрессировки и работы со служебными собаками — надежными помощниками полиции; тепло рассказывает об их дружбе с человеком, ради которого четвероногий друг готов пожертвовать даже своей жизнью.Книга рассчитана на массового читателя.
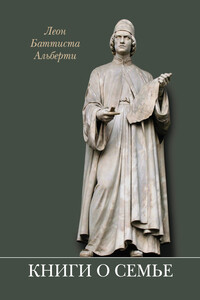
Четыре книги Леона Баттисты Альберти «О семье» считаются шедевром итальянской литературы эпохи Возрождения и своего рода манифестом гуманистической культуры. Это один из ранних и лучших образцов ренессансного диалога XV в. На некоторое время забытые, они были впервые изданы в Италии лишь в середине XIX в. и приобрели большую известность как среди ученых, так и в качестве хрестоматийного произведения для школы, иллюстрирующего ренессансные представления о семье, ведении хозяйства, воспитании детей, о принципах социальности (о дружбе), о состязании доблести и судьбы.
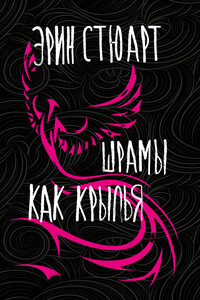
Шестнадцатилетняя Ава Ли потеряла в пожаре все, что можно потерять: родителей, лучшую подругу, свой дом и даже лицо. Аве не нужно зеркало, чтобы знать, как она выглядит, – она видит свое отражение в испуганных глазах окружающих. Через год после пожара родственники и врачи решают, что ей стоит вернуться в школу в поисках «новой нормы», хотя Ава и не верит, что в жизни обгоревшей девушки может быть хоть что-то нормальное. Но когда Ава встречает Пайпер, оказавшуюся в инвалидном кресле после аварии, она понимает, что ей не придется справляться с кошмаром школьного мира в одиночку.
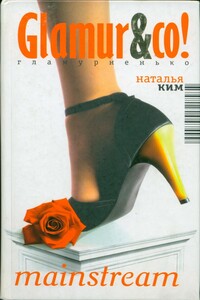
Что делать, если ты застала любимого мужчину в бане с проститутками? Пригласить в тот же номер мальчика по вызову. И посмотреть, как изменятся ваши отношения… Недавняя выпускница журфака Лиза Чайкина попала именно в такую ситуацию. Но не успела она вернуть свою первую школьную любовь, как в ее жизнь ворвался главный редактор популярной газеты. Стать очередной игрушкой опытного ловеласа или воспользоваться им? Соблазн велик, риск — тоже. И если любовь — игра, то все ли способы хороши, чтобы победить?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
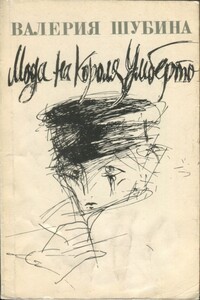
В новый сборник московской писательницы В. Шубиной вошли повести «Сад», «Мода на короля Умберто», «Дичь» и рассказы «Богма, одержимый чистотой», «Посредник», «История мгновенного замужества Каролины Борткевич и еще две истории», «Торжество» и другие. Это вторая книга прозы писательницы. Она отмечена злободневностью, сочетающейся с пониманием человеческих, социальных, экономических проблем нашего общества.