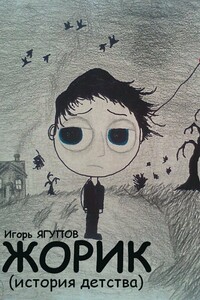Факультет - [3]
10.
Галина Борисовна – педагог. Именно педагог, а не преподаватель, учитель, работник высшей школы и прочее. И самое дорогое ее качество – умение радоваться успехам других. Ох, как это тяжело. Это почти невозможно. Но есть, есть люди, которым дается эта радость легко и искренне, которые без оглядки на себя возликуют от вашего успеха. Галина Борисовна именно такой человек…
Она – Человек. Это бóльшая похвала, чем может показаться на первый взгляд. Так ли уж много вокруг нас настоящих людей? Почему же тогда так мало педагогов на нашей курсовой выпускной фотографии? Ведь мы всех приглашали. Лично. К каждому подходили и просили прийти. И ведь они – педагоги – не чужие нам все-таки: пять лет мы с ними были рядом, и пять лет они из нас что-то лепили. Не знаю уж, какими мы были Галатеями, а они – Пигмалионами, но прийти и сфотографироваться с нами могли бы.
Где же ректор, которого лучшие из нас неизменно выбирали на всех спецсеминарах? Где же Людмила Львовна Иванова? Где же ненаглядный наш куратор Альберт Сергеевич Смирнов? Где все они? Времени на нас не хватило?
А Галина Борисовна сидит себе в самом центре. Да она просто не могла не прийти. Как же так: столько лет мы были вместе – и вдруг она бы позволила себе не прийти и не остаться навсегда с каждым из нас маленькой частичкой себя, своего сердца и своей доброты. Мы были разными, но она любила нас всех.
Спасибо, Галина Борисовна. За все спасибо. И за эту фотографию тоже. Спасибо за то, что Вы отдали нам всю себя без остатка. Нам и тысячам других студентов – с других курсов, из других лет и десятилетий – тем, кого Вы учили быть учителями.
Далеко не все из нас остались в школе. Но, быть может, мы ушли оттуда, потому что совестно было быть плохими педагогами после всего того, чему Вы нас научили? Кто знает? Вы-то нас всех хвалили. Как известно, доброе слово и кошке приятно. А ведь мы не кошки, а люди. То есть существа более других нуждающиеся в добром слове и, к сожалению, менее других за него благодарные.
Галина Борисовна, Вы так навсегда и остались просто «преподавателем педагогики». Хотя именно Вам, если бы дано нам было такое право, мы накинули бы на плечи профессорскую пурпурную мантию.
11.
Двадцать восьмое декабря. Мы сдаем анатомию прямо под Новый год. Нечасто видели меня на лекциях по этому предмету. Не везет мне и сейчас: девчонки лезут вперед и в аудиторию не прорваться.
– Что, предмет сильно интересный? – спрашиваю я у Оксаны.
– Не знаю, – пожимает она плечами.
Да, Оксана, видать, тоже нечасто доходила до этих лекций.
– Тут такая очередь… – говорит Оксана, – тут такая очередь…
И мы едем с ней на такси по засыпанному снегом городу в театр Северного флота, где какая-то тетенька по предварительной договоренности выдает ей гусарский костюм. Оксана будет выступать в нем на новогоднем вечере.
К нашему возвращению тускло освещенный коридор пуст. Мы опасливо заходим в царство теней, скелетов и скальпелей. Увешанный, как злая волшебница Гингема, со всех сторон муляжами каких-то кишок, нас встречает анатом.
Тусклыми глазами мы смотрим друг на друга. Ком тошноты стоит у меня в горле. Мы с ним сразу понимаем, что вряд ли у нас очень много общих интересов, так что на долгую беседу взахлеб рассчитывать не приходится.
Анатом показывает мне плакат с жутчайшего вида куском мяса. Ком в моем горле поднимается все выше. Плакат очень натуралистичен.
– Это что у нас? – спрашивает педагог.
– Это у нас… у вас, – я не могу представить, что такое есть и у меня, – почка, – выдавливаю я.
Анатом вздыхает:
– Это не почка.
– Печень? – я прилагаю отчаянные усилия по сдерживанию тошноты.
– Нет, – входит в азарт мой собеседник.
– Желудок?
Если – нет, то я пас.
– Угадали. А что в него впадает и что выпадает из него?
– Впадает рот, а выпадает прямая кишка, – шепчу я томно, прижимая платок к губам.
– Ну, это, конечно, упрощенная трактовка пищеварительного тракта, но… – вздыхает анатом, выводя в моей зачетке заветное слово.
Я выхожу из кабинета и иду домой. Не нужна мне Оксана с ее гусарским костюмом, и обед мне тоже не нужен. И ужин не нужен тоже…
12.
Интеллигентами не становятся – ими рождаются… Идет конец второго часа семинара по общей психологии. И тут дверь открывается.
– Можно? – говорит красное осовелое существо, вползая нетвердым шагом в аудиторию.
Имя существу – Сергей Макаренков. Он даже пишет стихи, но и пьет больше Есенина. Сережа, как в сомнамбулическом сне, идет меж парт, дыша туманами перегара.
– Макаренков, Макаренков, – шепчут девчонки. – Это не твоя группа. Твои в тридцать восьмом.
– А? – говорит, как бы очнувшись, наш поэт. – А?
Проблеск разума обманчив: Сережа продолжает путь по проходу, силясь не натолкнуться на парты.
– У твоих зарубежка. Зарубежка у твоих, – уже в голос ревут девчонки. – В тридцать восьмом. За-ру-беж-ка-а-а!
До Макаренкова доходит наконец-то суть мысли, хотя детали, очевидно, остаются в тени. Так, наверное, собака понимает команды «фу», «нельзя», «назад». Так или иначе, но Сережа разворачивается в проходе со степенностью авианосца и уплывает вон, кивнув на прощание.
Психолог закрывает рот, открытый еще с того момента, когда Сережа сказал «можно?»
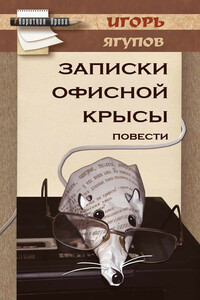
Повести профессионального журналиста и переводчика Игоря Ягупова можно отнести к жанру городской прозы. В «Записках офисной крысы» вас ждут забавные истории из жизни толмача крупной торговой компании. Вместе с героями повести «Побег в Рождество» вы совершите романтическое путешествие в предновогоднюю Финляндию. Необычная «лав стори» придает произведению особый стиль. С острой на язык журналисткой знакомит читателей повесть «Токсичная улыбка». Авторский стиль легок и полон юмора.

Вместе с героями повести вы совершите романтическое путешествие в предновогоднюю Финляндию. Необычная «лав стори» придает произведению особый стиль.
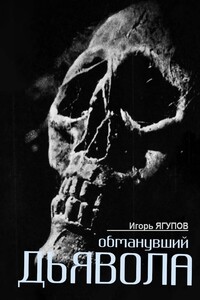
Он проиграл свою душу дьяволу. Он убивал, но избегал наказания. Он полторы сотни лет бродит по свету, не зная покоя. Кто остановит его? Роман написан в жанре мистической прозы.

Молодой техник-строитель Валентина приезжает из Украины в Заполярье. Она мечтает строить новые города и найти свое счастье. Но все ли сложится в ее жизни так, как она хотела? Роман охватывает период жизни героини с середины шестидесятых годов до наших дней. Рассчитан на широкий круг читателей.

Биография А Фадеева, автора «Разгрома» и «Молодой гвардии», сложна и драматична. И хотя к этой теме обращались уже многие исследователи, И. Жукову удалось написать книгу, предельно приближающую читателя к тем событиям и фактам, которые можно считать основополагающими для понимания и личности самого Фадеева, и той эпохи, с которой неразрывно связана его жизнь.

Поколение шестидесятников оставило нам романы и стихи, фильмы и картины, в которых живут острые споры о прошлом и будущем России, напряженные поиски истины, моральная бескомпромиссность, неприятие лжи и лицемерия. Их часто ругали за половинчатость и напрасные иллюзии, называли «храбрыми в дозволенных пределах», но их произведения до сих пор остаются предметом читательской любви. Новая книга известного писателя, поэта, публициста Дмитрия Быкова — сборник биографических эссе, рассматривающих не только творческие судьбы самых ярких представителей этого поколения, но и сам феномен шестидесятничества.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.