Евреи - [48]
– Во дворе много мужчин, – упорствовал Нахман…
С момента погрома он как бы потерялся. Он отвечал невпопад, о чем-то думал, без устали шагал по комнате, – но в душе его росла великая печаль. Было так, будто то огромное, что зажглось внутри его и ослепило, вдруг начало гаснуть, разрушаться, и оттого, что оно напрасно зажглось, поманило и теперь погасло, – потерялась охота к жизни. Погром? Разве могла удержаться почва под ногами? Где была высокая мечта Давида о грядущем равенстве народов? Где правда, еще вчера осязательная? Где вера, что евреи и христиане – братья? Одной жизни, одного страдания рабов все-таки что-то огромное разделяло, и случилось лишь, что более сильные… И каждый раз, когда мука душевного крушения одолевала его, он подбегал к Мейте и лихорадочно спрашивал:
– Ты еще веришь, Мейта, – может быть, ты хоть веришь?
А Мейта, замученная, испуганно отвечала вопросом:
– За что нас бьют, Нахман?
Только Натан оставался спокойным… Он не молил, не спрашивал, и в каждом взгляде, бросаемом Фейге, по-прежнему лежала сила его убежденности.
– Ты не боишься, Фейга, – говорил он, не выпуская ее руки, – скажи, что не боишься…
Но на второй день началось… Часов в десять утра раздались первые удары в ворота.
– Они здесь, – крикнул кто-то не своим голосом…
Послышались вопли. Вдруг ворота сорвались, с грохотом повалились на землю, и толпа человек в сорок с криком: бей жида! – ворвалась во двор. Предводительствовал плотник, сорокалетий человек с курчавой бородой и приплюснутым носом. Он бежал впереди странными, нехорошими прыжками, и красная рубашка на нем развевалась, как знамя жажды крови. За ним неслась толпа черного народа, вооруженная ломами, дубинками, топорами, и грозные крики их: бей жида, звучали, как удары по меди… Сейчас же пронесся вой, крик, мольба… Человек в красной рубахе остановился, гаркнул, ахнул и совсем неожиданно ударил дубинкой по голове, пересекавшего ему путь еврея. Падение и крик еврея сразу превратились в сигнал к грабежу, к резне… Погромщики рассеялись по квартирам, и сейчас же оттуда пошел противный звук разбиваемых стекол, мебели, рам, дверей… По двору же, ища спасения, бегали мужчины, женщины, дети, бросались на колени перед встречными погромщиками, умоляли, – их избивали, они поднимались, летели к боковой стене, чтобы перепрыгнуть в чужие дома, – за ними гнались, разбивали головы, наносили раны… Вой и крик становились невыносимыми. В один миг широкий двор превратился в поле бесславного сражения.
Великая минута страдания приближалась…
Натану и Фейге удалось укрыться в погребе, а Нахман, Мейта, Блюмочка и Чарна, не успевшие спастись из-за девочки, вернулись в свою квартиру и заперлись. Сима все оставалась под кроватью, и ее оберегал Мехеле.
У окна, прижавшись к нему липом, показалась фигура плотника в красной рубахе. И он долго заглядывал в комнату.
– Ого, ребята, сколько жидов! – послышался его хрипловатый голос. – Напирай на дверь!
Чарна от страха залезла под кровать и молящим шепотом крикнула:
– Спрячьтесь, мои дети, спрячьтесь, мои дорогие; Блюмочка, иди ко мне!
Сильный удар ломом потряс дверь… У окна опять появилось лицо плотника, и теперь оно было страшно своим тяжелым взглядом и расползшимися по стеклу седеющими усами.
– Ломай двери! – скомандовал он, разглядев Мейту.
Блюмочка подлезла под кровать, легла подле Чарны и обняла ее, и все движения и моления совершались так тихо, что нельзя было бы догадаться, готовятся ли здесь к страданию или делается пустое дело. Мейта, прижавшись к Нахману и как бы предчувствуя свою судьбу, тихо застонала:
– О Нахман, о мой Нахман!
Внезапно куча голосов огласили комнату. То дверь уступила напору, и человек восемь в изорванных рубашках ворвались в сени… Послышался нечеловеческий вопль, и он пропал в хоре голосов тех, которых истязали во дворе. Это крикнул Мехеле. Как собака, он не отходил от кровати, под которой лежала Сима, шептал ей ласковые слова и не смел всплакнуть, чтобы не испугать ее. При виде здоровенного погромщика, грозившего ему пальцем, он дико крикнул, и сейчас же из-под кровати показалась седая голова Симы… Погромщик с куском железа в руках тяжело задышал, внимательно посмотрел на голову старухи, и ноздри его затрепетали… Потом перевел взгляд на Мехеле, кричавшего с раскрытым ртом, вдруг вздохнул, неловко размахнулся и прямо по лбу, прицелившись в середину, изо всей силы, будто кнутом стегнул, – хватил железом… Старуха повернула голову щекой вверх и жалобно завыла. Мехеле, цепляясь за воздух руками и обливаясь кровью, без звука повалился.
– Помогите! – выла Сима, и с трудом и мучениями стала ползти из-под кровати. – Убили сыночка… сыночка…
Погромщик схватил старуху за волосы и, обмотав сединами руку, подергивая, потащил ее за собой и кричал густым, жирным голосом:
– Давай деньги, стерва, деньги давай!..
И дергал седые волосы, и она выла, потерявшись от ужаса, а он бил ее кулаками в лицо, в спину…
Во второй комнате двое разбивали все, что попадалось им в руки, двое забирали с собой вещи, молоденький погромщик вытащил Блюмочку за ноги и, не обращая внимания на ее крики, понес в соседнюю комнату, а от двух последних Нахман отбивался ножками от табуретки, и охрипшим голосом, обезумевший, не кричал, а ревел.
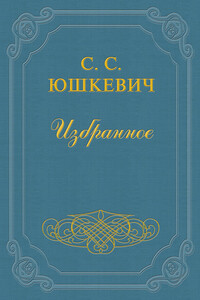
«С утра начался дождь, и напрасно я умолял небо сжалиться над нами. Тучи были толстые, свинцовые, рыхлые, и не могли не пролиться. Ветра не было. В детской, несмотря на утро, держалась темнота. Углы казались синими от теней, и в синеве этой ползали и слабо перелетали больные мухи. Коля с палочкой в руке, похожий на волшебника, стоял подле стенной карты, изукрашенной по краям моими рисунками, и говорил однообразным голосом…».

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».
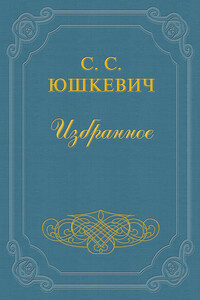
«Странный Мальчик медленно повернул голову, будто она была теперь так тяжела, что не поддавалась его усилиям. Глаза были полузакрыты. Что-то блаженное неземное лежало в его улыбке…».
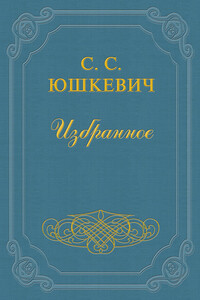
«Теперь наступила нелепость, бестолковость… Какой-то вихрь и страсть! Всё в восторге, как будто я мчался к чему-то прекрасному, страшно желанному, и хотел продлить путь, чтобы дольше упиться наслаждением, я как во сне делал всё неважное, что от меня требовали, и истинно жил лишь мыслью об Алёше. По целым часам я разговаривал с Колей о Настеньке с таким жаром, будто и в самом деле любил её, – может быть и любил: разве я понимал, что со мной происходит?».
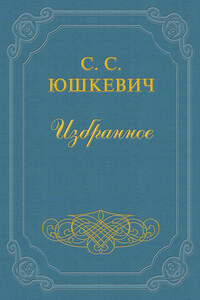
«Что-то новое, никогда неизведанное, переживал я в это время. Странная грусть, неясный страх волновали мою душу; ночью мне снились дурные сны, – а днём, на горе, уединившись, я плакал подолгу. Вечера холодные и неуютные, с уродливыми тенями, были невыносимы и давили, как кошмар. Какие-то долгие разговоры доносились из столовой, где сидели отец, мать, бабушка, и голоса их казались чужими; бесшумно, как призрак, ступала Маша, и звуки от её босых ног по полу казались тайной и пугали…».
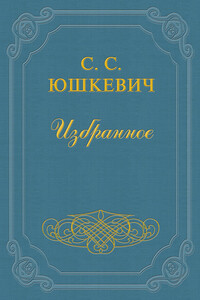
«И вдруг, словно мир провалился на глазах Малинина. Он дико закричал. Из-за угла стремительно вылетел грузовик-автомобиль и, как косой, срезал Марью Павловну. В колесе мелькнул зонтик.Показались оголенные ноги. Они быстро и некрасиво задергались и легли в строгой неподвижности. Камни окрасились кровью…».

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».

«Мы подходили к Новороссийску. Громоздились невысокие, лесистые горы; море было спокойное, а из воды, неподалеку от мола, торчали мачты потопленного командами Черноморского флота. Влево, под горою, белели дачи Геленджика…».

Из книги: Алексей Толстой «Собрание сочинений в 10 томах. Том 4» (Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1958 г.)Комментарии Ю. Крестинского.

Немирович-Данченко Василий Иванович — известный писатель, сын малоросса и армянки. Родился в 1848 г.; детство провел в походной обстановке в Дагестане и Грузии; учился в Александровском кадетском корпусе в Москве. В конце 1860-х и начале 1870-х годов жил на побережье Белого моря и Ледовитого океана, которое описал в ряде талантливых очерков, появившихся в «Отечественных Записках» и «Вестнике Европы» и вышедших затем отдельными изданиями («За Северным полярным кругом», «Беломоры и Соловки», «У океана», «Лапландия и лапландцы», «На просторе»)