Эволюция римской военной системы I-III в - [2]
Сколько человек насчитывала каждая из когорт, в точности неизвестно. Т. Моммзен полагал, что ее численность достигала 1 тыс. солдат. Однако, если мы учтем, что после того, как все девять преторианских когорт и три городских были сведены в одно место, а их лагерь занимал площадь в 16,72 га, станет ясно, что численность каждой из 12 когорт не должна была превышать 500 человек, поскольку лагерь для 5 тыс. солдат, по данным археологии, занимал от 18 до 20 га>15. Число солдат в одной когорте в разные эпохи варьировалось. Вителлий увеличил численность преторианской когорты до 1 тыс. человек. Однако после его падения количество солдат в когорте снова было сокращено до 500. Возможно, в 197 г. при Септимии Севере численность преторианской когорты снова возросла до 1 тыс. человек>16.
Преторианская когорта была подразделением смешанного состава. Она состояла из 6 центурий пехоты (60—80 человек каждая) и 3 кавалерийских турм, что позволило называть ее equitata (кавалерийская). Общее число преторианских всадников составляло около 900 человек>17. Во главе когорты стоял офицер в ранге трибуна, под командованием которого находилось 6 центурионов; старший из них имел звание trecenarius, так как командовал отрядом из 300 человек (speculators) — наиболее преданных людей, отобранных из среды преторианцев, несших службу непосредственно при императоре. Заместитель треценария имел звание «начальник лагеря» (princeps castrorum).
Общее командование преторианской гвардией осуществляли два префекта претория, происходившие из всаднического сословия, которые непосредственно подчинялись императору. Их должности были введены во 2 г. до н.э.>18. Только в 230 г. префекты стали получать сенаторское достоинство, пожалованное им Александром Севером>19. Хотя префект претория должен был командовать преторианской гвардией, однако его близость к имперскому двору превращала его de facto в военного министра и начальника штаба армии>20. Тиберий оставил только одного префекта претория. При Антонинах и Северах эту должность занимали чаще всего два человека, в III столетии — один.
Функции преторианцев были различными. Они служили не только в качестве телохранителей императоров и членов их семьи, но выполняли также определенные полицейские обязанности в Риме, и, что было наиболее существенно, преторианские когорты в подлинном смысле слова были боевым подразделением>21. Данные эпиграфики свидетельствуют, что еще при Диоклетиане они по-прежнему считались наиболее надежными и боеспособными воинскими частями>22.
Кроме преторианской гвардии в Риме находились еще 3 городские когорты (cohortes urbanae, urbaniciani), сформированные в 13 г. до н. э., имевшие номера с X по XII и организацию, подобную преторианской>23. В дальнейшем было образовано еще две городские когорты, одна из которых (I) находилась в Лугдуне, а другая (XIII) — в Карфагене>24.
Городские когорты обеспечивали охрану города и при необходимости выполняли полицейские функции. Кроме того, urbaniciani образовывали почетную гвардию самого Рима>25. Городские когорты насчитывали по 500 тяжеловооруженных пехотинцев>26. В I в. н. э. они подчинялись префекту Рима, имевшему сенаторское достоинство. Во II в. они перешли в ведение префектов претория. В каждой когорте было по шесть центурионов, во главе когорты стоял трибун. Около 20—23 гг. н. э. городские когорты размещались в том же самом лагере, что и преторианские, и оставались там вплоть до 270 г.
Между 41 и 47 гг. количество городских когорт было увеличено до 6, а при Клавдии их стало 7. Однако при Вителлин их осталось только четыре. При Антонине Пие в Риме было всего три городских когорты, и это количество сохранилось при Септимии Севере, который, правда, увеличил число солдат в каждой из них. В 270 г. император Аврелиан построил для городских когорт специальный лагерь (castra urbana) на Марсовом поле. После 312 г. когорты утратили свое военное значение и превратились в подразделение чисто административного характера>27.
В 6 г. н. э. было создано 7 когорт ночной стражи (cohortes vigilum). Август придал им военную организацию. Они насчитывали по 1 тыс. человек в каждой, набирались из императорских вольноотпущенников и не только обеспечивали охрану города в ночное время, но и выполняли функции пожарной команды. Каждое из этих подразделений отвечало за два из 14 кварталов, на которые был разделен город>28. У когорт ночной стражи не было своего лагеря, как у преторианцев, а только лишь ряд постов, разбросанных по всему городу, что помогало им в случае необходимости быстро появляться в нужных местах
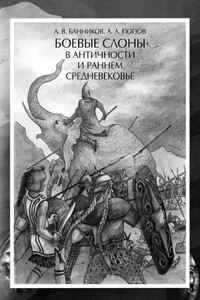
Книга посвящена одному из наиболее интересных сюжетов, касающихся военного дела Древнего мира — боевым слонам, чья история прослеживается от эпохи Александра Великого до периода правления Сасанидов. Предпринимается первая в отечественной историографии попытка обобщить и систематизировать весь накопленный материал по данной теме. Рассматриваются причины, обусловившие начало, расцвет и закат «эпохи боевых слонов». Для специалистов по истории военного дела Античности и раннего Средневековья.
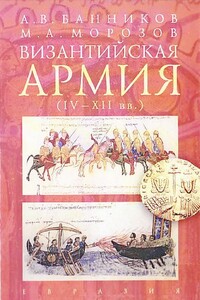
Книга посвящена армии Византийской империи, которая на протяжении многих столетий была одним из самых могущественных государств Средневековья и оказывала сильнейшее влияние на судьбы народов в Европе, Азии и Африке. Наследница и хранительница античных военных традиций, византийская армия вместе с тем не была какой-то застывшей и не способной к эволюции структурой. Заимствуя у своих противников все лучшие технические и тактические достижения, армия Империи сформировалась как продукт гармоничного синтеза греко-римских и чужеродных им элементов. Чтобы показать читателю наиболее полную картину того, что представляла собой армия Империи, авторами освещаются вопросы, касающиеся комплектования армии, ее вооружения, тактического деления, приемов ведения боя, и многие другие. Книга адресована как специалистам, так и всем интересующимся военным делом Античности и Средневековья.
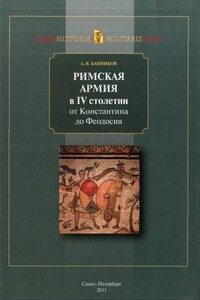
В книге рассматриваются этапы развития позднеримской военной системы… Ее формирование, длившееся более полувека и завершенное в правление императора Константина I (306–337 гг.) и его сыновей; ее модификации, продолжавшиеся вплоть до правления Феодосия I, в результате которых армия обрела способность не только на равных бороться с любым противником, но и одерживать над ним верх; стремительная и необратимая варваризация армии — самый яркий признак надвигавшейся деградации и упадка позднеримской военной системы. Для специалистов по античной истории и военному делу древности и всех интересующихся историей Древнего Рима.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Первая мировая война, «пракатастрофа» XX века, получила свое продолжение в чреде революций, гражданских войн и кровавых пограничных конфликтов, которые утихли лишь в 1920-х годах. Происходило это не только в России, в Восточной и Центральной Европе, но также в Ирландии, Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти практически забытые сражения стоили жизни миллионам. «Война во время мира» и является предметом сборника. Большое место в нем отводится Гражданской войне в России и ее воздействию на другие регионы. Эйфория революции или страх большевизма, борьба за территории и границы или обманутые ожидания от наступившего мира — все это подвигало массы недовольных к участию в военизированных формированиях, приводя к радикализации политической культуры и огрубению общественной жизни.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.
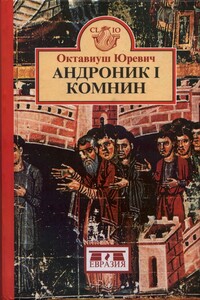
Последний византийский император из династии Комнинов вошел в историю как фигура исключительная. Еще со времени Никиты Хониата утвердилось мнение, активно распространяемое в новое время (особенно представителями историографии эпохи Просвещения), что Андроник I Комнин был типичным тираном на троне, не разбиравшим средств для достижения собственных целей. Андроник I проводил политику жестокого террора и социальной демагогии, что привело не только к непрочности его режима, но и к последующему упадку и гибели Империи в 1204 году.
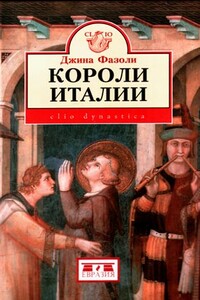
Известный итальянский историк Джина Фазоли представляет на суд читателя книгу о едва ли не самом переломном моменте в истории Италии, когда решался вопрос — быть ли Италии единым государством или подпасть под власть чужеземных правителей и мелких феодалов. X век был эпохой насилия и бесконечных сражений, вторжений внешних захватчиков — венгров и сарацин. Именно в эту эпоху в муках зарождалось то, что ныне принято называть феодализмом. На этом фоне автор рассказывает о судьбе пяти итальянских королей, от решений и поступков которых зависела будущая судьба Италии.
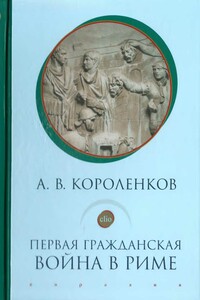
Антон Викторович Короленков Первая гражданская война в Риме. — СПб.: Евразия, 2020. — 464 с. Началом эпохи гражданских войн в Риме стало выступление Гракхов в 133 г. до н. э., но собственно войны начались в 88 г. до н. э., когда Сулла повел свои легионы на Рим и взял его штурмом. Сначала никто не осознал масштабов случившегося, однако уже через год противники установленных Суллой порядков сами пошли на Рим и овладели им. В 83 г. до н. э. Сулла возвратился с Востока, прервав войну с Митридатом VI Понтийским, чтобы расправиться со своими врагами в Италии.
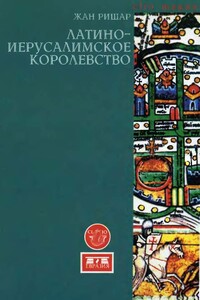
Латинские королевства на Востоке, возникшие в результате Крестовых походов, стали островками западной цивилизации в совершенно чуждом мире. Наиболее могущественным из этих государств было Иерусалимское королевство, его центром был Святой Град Иерусалим с находящимся там Гробом Господним, отвоевание которого было основной целью крестоносцев. Жан Ришар в своей книге «Латино-Иерусалимское королевство» показывает все этапы становления государственности этого уникального владения Запада на Востоке, методично анализируя духовные и социальные причины его упадка и гибели.