Этот мир как сон - [15]
Не пытался оправдаться, отчетливо представлял — командир сейчас в первую очередь думает о себе, снимая возможное обвинение в попустительстве проступку подчиненного. Покорно отдал меч сержанту, потом под конвоем дежурного наряда отправился в ротную узницу. Она размещалась неподалеку — в подвале штабного здания с обратной его стороны. Старший наряда открыл массивный замок, распахнул обитую железным листом дверь и коротко сказал, кивком показывая в сторону темного подвала: — Проходи.
Мучительно долго проходило время в сыром и темном подвале. В выматывающем нервы ожидании шли день за днем, уже потерял им счет, а судьба моя все не решалась. Дежурные раз в сутки приносили поесть, заменяли бадью для справления нужд, но со мной не разговаривали. Вся мрачная атмосфера карцера, неопределенность будущего давили на мою психику, я уже стал заговариваться. Только немалым напряжением воли и сеансами аутотренинга удерживал свой рассудок в относительном порядке. Не знаю, то ли через неделю, а, может быть, и две, меня наконец-то повели из подвала в штаб. Готов был к любому повороту судьбы, лишь бы скорее закончилось сводящее с ума ожидание самого худшего.
В кабинете командира роты, куда меня провел конвой, увидел кроме него еще одного офицера, тоже капитана, только не в серой форме, как у нас, а в зеленой. Гость первым начал речь, обратившись ко мне:
— Волонтер Серегей Ивано, военный трибунал разбирает совершенное тобой преступление. Ты обвиняешься в нападении на особу дворянского рода и нанесении ему телесных мучений. Чем можешь объяснить свое преступное деяние, не было ли у тебя злого умысла или сговора с мятежниками? Учти, в случае обнаружения следствием отягчающих обстоятельств ты будешь приговорен к смертной казни. Если же не будешь упорствовать и расскажешь правду о своих сообщниках или других злоумышленниках, подговоривших тебя на преступление, то трибунал может смягчить приговор.
Этого мне еще не хватало — участия в каком-то заговоре! Да и как я мог связаться с кем-нибудь из заговорщиков, если весь месяц находился в расположении роты — мне ни разу не давали увольнительную. Стараясь выдержать спокойный тон, ответил дознавателю:
— Господин капитан, могу поклясться в том, что ни злого умысла, ни сговора с какими-то сообщниками у меня не было. Пострадавший сам вызвал меня на учебный бой и атаковал, я же только защищался. Случайно, при блокировании удара, задел мечом шею Марка. Весь наш десяток смотрел этот бой, они могут подтвердить мои слова. Признаю свою вину в допущенной неосторожности, но преступного намерения у меня не было.
— Так, обвиняемый, вижу — никакого раскаяния в тебе нет. Даже не осознаешь тяжести своего преступления. Все, уведите его, с ним все ясно.
Еще через три дня, проведенных мною в отчаянии — неужели смертная казнь? — меня вновь вызвали к командиру. Следователя не увидел, ротный сам зачитал мне приговор трибунала: — .... по обвинению в особо тяжком преступлении приговорил Серегея Ивано к каторжным работам пожизненно, до скончания его века.
Противоречивое чувство захватило меня — радость, что все же не казнь, и в то же время обида на несправедливый суд. Мой проступок никак не подпадал под такое суровое наказание по воинскому уложению. Максимум, что соответствовало ему — служба в штрафных ротах и то на ограниченный срок. По-видимому, здесь скрывалась политическая подоплека — знать всеми мерами отстаивала свои привилегии и вседозволенность. И покушение на кого-то из своих восприняла как государственное преступление. Капитан в какой-то мере сочувствовал мне — видел в его глазах искорку жалости. Но всем видом выражал суровость к преступнику в моем лице, после объявления приговора добавил:
— Сегодня за тобой прибудет конвой из пересыльного лагеря. Выдадим перед отправлением паек на первое время, форму и сменную одежду оставим тебе. Прощай.
Глава 4
В пересыльном лагере содержались осужденные за серьезные преступления, ожидавшие отправки этапом в места отдаленные. В большинстве уголовники — убийцы, грабители, насильники. Но и таких, как я — бывших военных, а также мятежников, других государственных преступников, — также было немало. Располагался лагерь в бараках на северной окраине города. После того, как конвой доставил сюда в закрытой повозке, меня еще несколько часов продержали в приемнике — огороженном решеткой помещении, в компании явно уголовных лиц и нескольких гражданских.
Держался особняком, впрочем и остальные в большей части не пытались навязаться к кому-либо — после вынесения приговора еще не свыклись со своей новой долей, переживали за пропащую жизнь. Сам я не смирился с мыслью, что все лучшее у меня позади, а впереди только беспросветное прозябание в тяжком труде и невыносимых для нормальной жизни условиях. Во мне жило предчувствие грядущей перемены в моей судьбе, к добру она или к злу — еще не знал, но не терял надежды и веры. Надо самому не падать духом и не сдаваться на милость жестокому року.
С таким убеждением, сложившемся в часы ожидания конвоя, я прибыл в лагерь, томился здесь в клетке приемника, а затем перешел в сопровождении надзирателя в барак. Он представлял собой длинное каменное здание с небольшими зарешеченными окнами, в чем-то подобным казарме. Внутри по обе стороны от центрального прохода размещались камеры — отгороженные между собой решетками клетки. Нар не было, по-видимому, люди спали прямо на полу. Увидел разношерстную толпу — молодых и старых, различных сословий и прежнего достатка, судя по одежде и внешнему виду.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Кир доверил случаю выбор вуза и не представлял, какой предварительный отбор должен пройти его абитуриент…Первое место в номинации «Читательская симпатия» на конкурсе «Кубок Брэдбери-2018».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
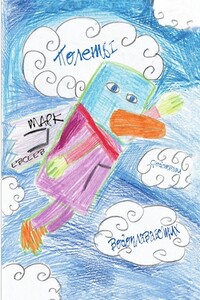
В романе «Полеты средствами водоплавающих» организованным событийным хороводом и несколько оригинальной композицией переплелись пара хорошо знакомых читателю планет нашей звездной системы. В купе с Меркурием, Сатурном, грозным, нелогичным, но приветливым Никандром, очаровательным Лару и другими героями перед вами оживут островки воспоминаний, кусочки неоднородного, частично растерянного пазла вероятного будущего и непроглядного прошлого. Однако лишь сверкающее настоящее отрепетированным ансамблем заманит в объятья последнего гостя Земли.

Различные расы пришельцев пытаются взять под контроль Землю (еще одна из версий инопланетного вторжения). Только в этот раз есть расы которые помогали нам всегда….
