Это мы, Господи, пред Тобою… - [189]
«Состояние сословий» в нынешнем государстве особенно долго его занимало, и привычные градации долго мешали правильному общению. Бородин от своего босоного детства сохранил деревенские манеры и лексику, был небрежен в одежде, и Пушкин однажды назвал его «лекарь», хотя уже признал гениальность, научное «себяотвержение», сравнивал с Ломоносовым, порою кидался подать старику пальто или поднять оброненную вещь. Садовника-аспиранта Института — «иностранец» не раз называл «на ты» и спросил как-то: «Ты жид?»
— Как я понимаю, образованные и ученые люди составляют нынче аристократию нашего народа? Не так ли? — Особенно радовался обилию интеллигенции у прежде отсталых народов: — «Я знал, что так будет!»
Само слово «интеллигенция» его пленяло. Оно и прежде было знакомо, но то, что так называют «целое сильное сословие критически мыслящих личностей», было для него внове. «Какое слово точное! Я всегда гордился своим высоким дворянством, оказывается, я был интеллигентен, как простолюдин Ломоносов, дворянин Радищев, офицеры-декабристы, Кольцов, вышедший из мещан…»
Однако сознание себя аристократом долго держалось. Он знакомился с событиями октябрьской революции, и я припоминаю диалог:
— Тогда у Вас, как у французов провозгласили: «Аристократов — на фонарь!» Но как же сохранился ваш княжеский род?
Я рассказал, что отец мой, офицер, принял участие в революции на стороне большевиков, княжество свое не обнаружил… Мало ли Вяземских… Немногие знали… И назвал имена других родовитых дворян, тоже оказавшихся с большевиками.
— Скрывать свой род, вместо того, чтобы им гордиться! — Пушкин возмущенно вздернул плечи. — Я предпочел бы фонарь!
Вся его жизнь теперь была труд, в который он погрузился со страстью и наслаждением. День был расписан, как в пансионе. Еда, сон, медицинское обследование — все «обязательное» — мешали неустанному движению сознания, перерабатывающего новое, непривычное, чуждое и переоценивавшего все, что знал прежде. Ни малейшей небрежности не позволив себе в ритуале гигиены и обследований, он тотчас спешил к книгам, экранам, беседам со мною, лекциям Северцева. Очень быстро, так что мы дивились, вырастал умственно. В мир новейшей техники, приняв ее как данность, он не пытался проникнуть глубоко, довольствуясь скупой информацией, шутил над нею, припоминал «логическую машину», которую Гулливер увидал в Лилипутии. Его интересовало внутреннее состояние общества. Он уже не скрывал от меня, что «долбит» свои былые стихи наизусть.
Беседовать с ним было нелегко: даже европейски образованного академика Северцева он подавлял эрудицией, свободно цитировал классиков, Платона, Монтеня, Гассенди и многих, кого мы знали только по именам да общему значению. В спорах быстро увядал, не умственно, а психологически: «Мне следует принимать все, как оно есть. Задумываться и сравнивать нельзя. Сравнивать можно лишь близко стоящие вещи и понятия. Я в ваших глазах выгляжу, вероятно, как в моих выглядел бы летописец Нестор». Если ставил своими неисчерпаемыми знаниями Северцева в тупик, говорил мягко, что столько старых понятий и представлений утонуло в бездне времени, их в деталях помнить трудно, что и он ведь сам невежда в том, что знает Северцев.
Все ждали от него новых стихов. Проходили месяцы. Он не обнаруживал при все расцветающем блеске ума никаких признаков творчества поэтического. Свои старые стихи он уже знал и не терялся, как прежде.
Я прочел, наконец, ему свой роман о нем. Он почти не поправлял меня, только как-то особенно прислушивался, когда я касался непосредственно творческих мгновений, будто мучительно припоминал что-то знакомое, но позабытое. «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит», — повторил фразу, сказанную им некогда его портретисту Кипринскому. — Я был, оказывается, ленив и беспечен, даже в года зрелые, но, знаете, я был талантлив. Сейчас не то. Я работаю с удовольствием, как вол, но не нахожу в себе состояния, которое влекло к созданию стихов. Я его жду — не приходит…
Так он признался мне одному, интимно, что давно сам заметил свою самую большую ущербность.
— Я тогда точно выразил это:
— И вот не могу более вызвать это состояние, как раньше. Неужели муза меня покинула навсегда!? — Глаза его наполнились ужасом, он зарыдал глухо, без слез, будто застонал, протянул ко мне с мольбою затрепетавшие руки, обнял меня, приник: помоги! Защити!
Я стискивал мелко дрожавшие плечи и, собрав всю силу любви к нему уверял, что вернется, что покамест он подавлен лавиной узнаваний, она отодвинула органически ему присущее. Это неудивительно. Так должно. Все, все придет, вернется…
Я утешал, обнадеживал, но кому как не мне было уже совершенно ясно, что в личности Пушкина есть и другие изъяны — «раковины» в воссозданном сплаве мышления. Например, он не подозревал о существовании таблицы умножения, хотя практически пользовался ею постоянно. Не знал названия отдельных безусловно ему известных предметов, как салфетка, стакан. Бурно тоскуя по друзьям своей первой жизни, почти не вспоминал Натали, детей, хотя, как мы видели, понятие рода своего в нем сохранилось.

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.
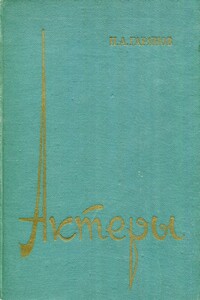
ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.