Если я забуду тебя… - [5]
Толкотня в портиках имела мало святости и скорее напоминала сцены жизни рынка, а не храма. Пространство между огромными столбами было заставлено палатками и столами, было шумно от блеяния ягнят и воркования голубей. Здесь продавали жертвенных животных всем, кто хотел принести жертву на алтарь. Это была доходная торговля, в которой обманывали всех. Дело в том, что священники должны были удостоверить, что каждый ягненок и козленок не имеет изъянов, что каждый голубь был подходящей породы, специально разводимой для жертвоприношения. Более того, даже меры прекрасной муки, масла и зелени — все, что могли предложить бедняки — должны были проверяться священниками и удостоверяться, что они ритуально чисты. И со всего этого в пользу первосвященника собирались налоги, так что по сути дела первосвященник был не многим лучше грабителя, во имя веры высасывая все соки из народа. Везде можно было видеть его служителей, — сборщиков налогов — которые прогуливались в белых одеяниях, с кнутами в руках, которые они легко пускали в ход, если для вымогательства им не хватало слов. Ну и как все остальные, здесь присутствовали менялы, ведь очень многие, как я уже говорил, пришли в Храм издалека и должны были обменять золото, привезенное с собой. И потому звон монет смешивался с курлыканьем голубей там, где за своими столами сидели менялы, деловито надувая своих доверчивых клиентов, так как многие приезжие из далеких стран не говорили по арамейски и не могли понять, что именно говорит им меняла. И все-таки, не хочу, чтобы вы думали, будто присутствие этих негодяев легко переносилось более благочестивыми евреями. Очень часто раввинами-реформаторами предпринимались попытки выбросить их отсюда, но эти попытки имели небольшой результат, потому что за привилегию обманывать приезжих в пределах Храма менялы отдавали часть дохода первосвященнику. Когда доходило до борьбы между первосвященником и раввином, первосвященник всегда побеждал, ведь за ним была мощь оккупационных войск римлян, а именно римляне, а не евреи правили в Иудее.
Среди портиков находился наружный двор Храма, который из-за того что был открыт для всех, что для евреев, что для неевреев, был известен как двор неевреев. Дальше этого двора неевреев находился низкий парапет, известный под названием «парапет очищения» или на иврите «сорег», который обвязывал все внутренние строения Храма невидимым барьером власти. Он был высотой в три фута, и любой человек мог легко преодолеть его. Однако за него позволялось переходить лишь тем, кто исповедовал веру евреев. Даже римские правители Иудеи уважали эту границу и позволяли евреям наказывать любого скептика, перешедшего черту. Из-за этого вдоль парапета на некотором расстоянии стояли четырехугольные столбы, на которых по гречески и латыни были начертаны следующие слова: «Ни один чужестранец не имеет права пересечь этот парапет или войти в Святилище. Нарушитель да понесет вину за свою смерть».
А теперь позвольте признаться, что я сам, хоть и не исповедую веры евреев, был за этим барьером. Более того, я даже проник в самое сердце их таинства, в Святая Святых в глубине Святилища, куда даже первосвященник может входить лишь раз в году, да и то после самого тщательного очищения. Но это случилось в последние дни Иерусалима, когда над ним нависла тень смерти, и мое появление в святом месте было случайным и не было результатом желания совершить святотатство. А в те дни, о которых я сейчас рассказываю, ни один чужеземец не дерзнул бы пройти за парапет, даже римский прокуратор Гессий Флор, который был мерзавцем, способным на всяческие гнусности. Но так как я глубоко интересовался верой евреев и совершенно искренне желал узнать все, что возможно о Храме, я много раз стоял рядом с парапетом, стараясь разглядеть то, что находилось за огромными воротами на вершине лестницы.
Представьте себе мощную пирамиду, состоящую из множества террас и широких лестниц. Четырнадцать ступеней вели к первой террасе. Следующий пролет из пяти ступеней увенчивался стеной, за которой находился алтарь и Святилище. А в этой великой стене представьте себе девять огромных ворот, четыре с севера, четыре с юга, одни на востоке, на западе же стена была нерушимой. Эти ворота были великолепны и видны издалека, двойные ворота пятидесяти футов в высоту и двадцати пяти в ширину, покрытые серебром и чеканным золотом, точно так же как воротные столбы и притолоки. За стеной с восточной стороны располагался двор женщин, потому что еврейские женщины не могли подойти к Святилищу ближе, чем в этом дворе, во время же своих месячных они вовсе не могли входить в Храм. Трое ворот вели в этот двор, на востоке, на севере и на юге. Когда были открыты восточные ворота, внутри этого двора можно было увидеть мраморный портик и много небольших зданий, где хранились драгоценные пряности, используемые в Храме. Евреи очень ценят эти пряности и редкие духи, почитая их гораздо больше чем золото. В зданиях двора женщин было и много других сокровищ, украшения из золота и серебра, драгоценные ткани, всевозможные драгоценные камни. Здесь так же стояли тринадцать хранилищ с широким открытым верхом как у трубы, сужающиеся к основанию, в которые благочестивые люди бросали пожертвования большие или малые.
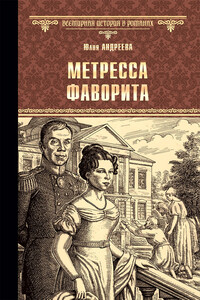
«Метресса фаворита» — роман о расследовании убийства Настасьи Шумской, возлюбленной Алексея Андреевича Аракчеева. Душой и телом этот царедворец был предан государю и отчизне. Усердный, трудолюбивый и некорыстный, он считал это в порядке вещей и требовал того же от других, за что и был нелюбим. Одна лишь роковая страсть владела этим железным человеком — любовь к женщине, являющейся его полной противоположностью. Всего лишь простительная слабость, но и ту отняли у него… В издание также вошёл роман «Плеть государева», где тоже разворачивается детективная история.
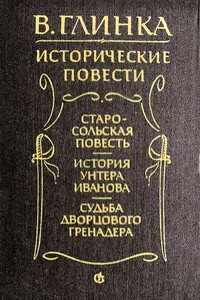
Повести В. М. Глинки построены на материале русской истории XIX века. Высокие литературные достоинства повестей в соединении с глубокими научными знаниями их автора, одного из лучших знатоков русского исторического быта XVIII–XIX веков, будут интересны современному читателю, испытывающему интерес к отечественной истории.
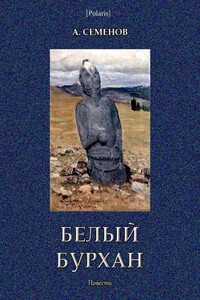
Яркая и поэтичная повесть А. Семенова «Белый Бурхан», насыщенная алтайским фольклором, была впервые издана в 1914 г. и стала первым литературным отображением драматических событий, связанных с зарождением в Горном Алтае новой веры — бурханизма. В приложении к книге публикуется статья А. Семенова «Религиозный перелом на Алтае», рассказ «Ахъямка» и другие материалы.
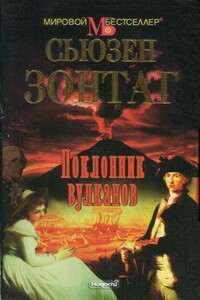
Романтическая любовь блистательного флотоводца, национального героя адмирала Нельсона и леди Гамильтон, одаренной красивой женщины плебейского происхождения, которую в конце жизни ожидала жестокая расплата за головокружительную карьеру и безудержную страсть, — этот почти хрестоматийный мелодраматический сюжет приобретает в романе Зонтаг совершенно новое, оригинальное звучание. История любви вписана в контекст исторических событий конца XVIII века. И хотя авторская версия не претендует на строгую документальность, герои, лишенные привычной идеализации, воплощают в себе все пороки (ну, и конечно, добродетели), присущие той эпохе: тщеславие и отчаянную храбрость, расчетливость и пылкие чувства, лицемерие и безоглядное поклонение — будь то женщина, произведение искусства или… вулкан.
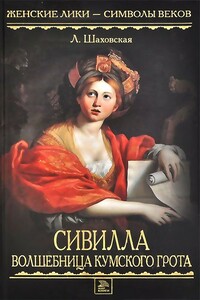
Княгиня Людмила Дмитриевна Шаховская (1850—?) — русская писательница, поэтесса, драматург и переводчик; автор свыше трех десятков книг, нескольких поэтических сборников; создатель первого в России «Словаря рифм русского языка». Большинство произведений Шаховской составляют романы из жизни древних римлян, греков, галлов, карфагенян. По содержанию они представляют собой единое целое — непрерывную цепь событий, следующих друг за другом. Фактически в этих 23 романах она в художественной форме изложила историю Древнего Рима. В этом томе представлен роман «Сивилла — волшебница Кумского грота», действие которого разворачивается в последние годы предреспубликанского Рима, во времена царствования тирана и деспота Тарквиния Гордого и его жены, сумасбродной Туллии.
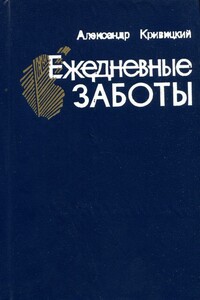
В новую книгу Александра Кривицкого, лауреата Государственной премии РСФСР, премии имени А. Толстого за произведения на международные темы и премии имени А. Фадеева за книги о войне, вошли повести-хроники «Тень друга, или Ночные чтения сорок первого года» и «Отголоски минувшего», а также памфлеты на иностранные темы, опубликованные в последние годы в газете «Правда» и «Литературной газете».