Если бы не друзья мои... - [93]
— А это, думаешь, более ходовой товар? — подозрительно смотрит он на меня.
— Наверняка не знаю. Но ослабленные голодом люди чаще болеют такими тяжелыми болезнями, как воспаление легких. Сейчас каждый что-нибудь да мастерит. Вы сами знаете, долго ли неопытному человеку руку, ногу покалечить? А самое главное — из ваты и марли можно соорудить какую-нибудь одежонку.
— Может, ты и прав. Но тут уж я не хозяин.
Твердо решаю: Томина мать пока не должна знать об этом разговоре.
РАСПОРЯЖАЕТСЯ КАРЛ
Вот уже несколько дней, как главврач и его помощник не выходят из лазарета. В сопровождении полицая нас отправили на реку за песком и приказали посыпать все дорожки. Сам Пипин, как мокрица, залезает в каждую щель. Он водит пальцем по мебели, по стеклам. Следит, чтобы дверные ручки были надраены, как медные части корабля. Шумов получил распоряжение: со второго этажа следить за дорогой и, как только появится высокое начальство, немедленно доложить.
Первым представителем немецкого командования, которому надлежало проверить, готов ли лазарет и его персонал к приему больных, оказался… одноглазый Карл. Ошибка исключалась. Кто хоть однажды видел эту физиономию, запомнил ее на всю жизнь. Кое-какие изменения в его внешности, правда, произошли. Вместо черной повязки — стеклянный глаз. Короткие светлые усики, погоны фельдфебеля и нашивки, свидетельствующие о том, что он был дважды ранен.
Карл пожаловал около полудня. Никто его не видел. Тихо и незаметно он прошел по двору, поднялся на несколько ступенек и направился — не зря говорят, у волка волчий нюх — в крайнюю комнату, где на полу сидел Кузя, с головой ушедший в важное занятие — давил вшей. Зайди Карл несколькими минутами раньше, он застал бы там всех санитаров за тем же делом.
Как произошла встреча, никто из нас так и не узнал, ибо прибежали мы, только услышав Кузины вопли. Первое, что бросилось нам в глаза: здоровенный разъяренный фашист с лицом, перекошенным от злобы, полосует новой ременной скрипучей плеткой пытающегося убежать от него голого, худого, как скелет, Кузю.
Главврач в растерянности. Остановить Карла он не решается. Он только приказывает Аверову спросить, что случилось, чем провинился Кузя.
— Доннерветтер! Вы еще спрашиваете? — Единственным глазом, побелевшим от бешенства, Карл уставился на Казимира Владимировича, и… его лицо запылало, как костер на ветру: оказывается, унтер-офицер-то из пленных, тех самых, которых он, Карл, совсем недавно конвоировал. Вот, стало быть, с кем его, чистокровного арийца, хотят поравнять! Тяжело, отрывисто дыша, он замахнулся плеткой, но, спохватившись, в последнюю минуту опустил ее снова на Кузю. Единственное понятное слово в монологе, который он выпаливает, не переводя дыхания, — «дрек». Главный врач, который сейчас не чувствует себя не только хозяином, но даже и гостем, заводит глаза от страха:
— Где?
Карл от бешенства теряет дар речи и жестом, достаточно красноречивым, показывает, чем занимался Кузя.
— Ай, ай! — хватается Крамец за лысую голову. — Такой скандал!
Его большие торчащие уши наливаются кровью, мутные глаза, кажется, вот-вот вылезут из орбит. Он топает ногами:
— Надевай свое тряпье — и марш отсюда! Духу его чтобы здесь не было. Слышите?
К кому он обращается? К своему помощнику, у которого узкие, бледные губы, как всегда, поджаты? К Аверову, который так низко опустил голову, что густые, нависшие брови совсем заслонили глаза? Ко всем нам? Он ищет кого-то глазами. Полагаю, мне лучше скрыться. Уже в коридоре слышу, как Карл приказывает: отвести Кузю не в барак, а в карцер. Теперь Кузе уже никто не сумеет помочь, не сумеет облегчить его участь. Ведь приказ отдал сам Карл, который чувствует себя здесь генералом, командующим парадом.
С чердака, где царит удивительная, пугающая после только что разыгравшегося скандала тишина, я вижу Кузю. Бледный, сгорбленный, он идет, загребая пыль босыми ногами. Уголки посиневших губ вздрагивают. Он шмыгает носом: может быть, тихо плачет и уж наверняка проклинает всю родню своих мучителей и палачей по седьмое колено.
Крамец делает вид, будто до визита Карла он не замечал, что мы одеты как огородные пугала, заросли грязью и завшивели. Сейчас он вынужден кое-что предпринять. Первый сеанс дезкамеры посвящен нам, обслуживающему персоналу лазарета. Затем нам сообщили еще об одной милости: на ночь нас не будут гнать в лагерь. Мы будем ночевать в крайней комнате, где устанавливают двухэтажные нары.
Сам Крамец уже давно переселился в лазарет, да не один, а со своим серым котом Васькой, который, как тень, следует за ним. Саша Мурашов считает, что кот и его хозяин похожи друг на друга: оба часто облизываются, спят долго и крепко, но от Крамеца несет водкой, а от кота — валерьянкой.
Не зря Васька редко появлялся без Пипина. Все, что накипело в душе против главврача, срывали на его четвероногом спутнике. Однажды Пипин нашел его полумертвым в дезкамере, через несколько дней — зашитым в матрац. Больше суток Васька провисел в мешке. Кто-то остриг ему усы. Когда выдали едкую мазь от чесотки, больше половины ее досталось Ваське. Валерьянкой его угощал не только хозяин. Но тогда в любимый напиток кота подливали касторку, подсыпали английскую соль.

Творчество известного еврейского советского писателя Михаила Лева связано с событиями Великой Отечественной войны, борьбой с фашизмом. В романе «Длинные тени» рассказывается о героизме обреченных узников лагеря смерти Собибор, о послевоенной судьбе тех, кто остался в живых, об их усилиях по розыску нацистских палачей.
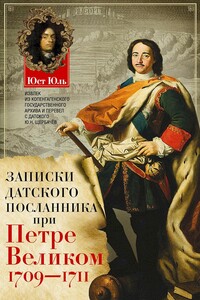
В год Полтавской победы России (1709) король Датский Фредерик IV отправил к Петру I в качестве своего посланника морского командора Датской службы Юста Юля. Отважный моряк, умный дипломат, вице-адмирал Юст Юль оставил замечательные дневниковые записи своего пребывания в России. Это — тщательные записки современника, участника событий. Наблюдательность, заинтересованность в деталях жизни русского народа, внимание к подробностям быта, в особенности к ритуалам светским и церковным, техническим, экономическим, отличает записки датчанина.

«Время идет не совсем так, как думаешь» — так начинается повествование шведской писательницы и журналистки, лауреата Августовской премии за лучший нон-фикшн (2011) и премии им. Рышарда Капущинского за лучший литературный репортаж (2013) Элисабет Осбринк. В своей биографии 1947 года, — года, в который началось восстановление послевоенной Европы, колонии получили независимость, а женщины эмансипировались, были также заложены основы холодной войны и взведены мины медленного действия на Ближнем востоке, — Осбринк перемежает цитаты из прессы и опубликованных источников, устные воспоминания и интервью с мастерски выстроенной лирической речью рассказчика, то беспристрастного наблюдателя, то участливого собеседника.

«Родина!.. Пожалуй, самое трудное в минувшей войне выпало на долю твоих матерей». Эти слова Зинаиды Трофимовны Главан в самой полной мере относятся к ней самой, отдавшей обоих своих сыновей за освобождение Родины. Книга рассказывает о детстве и юности Бориса Главана, о делах и гибели молодогвардейцев — так, как они сохранились в памяти матери.
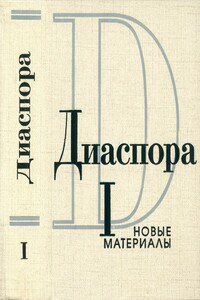
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поразительный по откровенности дневник нидерландского врача-геронтолога, философа и писателя Берта Кейзера, прослеживающий последний этап жизни пациентов дома милосердия, объединяющего клинику, дом престарелых и хоспис. Пронзительный реализм превращает читателя в соучастника всего, что происходит с персонажами книги. Судьбы людей складываются в мозаику ярких, глубоких художественных образов. Книга всесторонне и убедительно раскрывает физический и духовный подвиг врача, не оставляющего людей наедине со страданием; его самоотверженность в душевной поддержке неизлечимо больных, выбирающих порой добровольный уход из жизни (в Нидерландах легализована эвтаназия)

У меня ведь нет иллюзий, что мои слова и мой пройденный путь вдохновят кого-то. И всё же мне хочется рассказать о том, что было… Что не сбылось, то стало самостоятельной историей, напитанной фантазиями, желаниями, ожиданиями. Иногда такие истории важнее случившегося, ведь то, что случилось, уже никогда не изменится, а несбывшееся останется навсегда живым организмом в нематериальном мире. Несбывшееся живёт и в памяти, и в мечтах, и в каких-то иных сферах, коим нет определения.