Если бы не друзья мои... - [88]
— Скажи пожалуйста, — ухмыльнулся Крамец, посмотрев на фельдшера как на ожившее чучело. — А мне казалось, что вас, фельдшер, ничего не интересует. Ящик со стеклом стоит на чердаке. Стекольщика я вам на днях пришлю. А вы что хотели у меня спросить? — обращается он к Аверову.
Казимир Владимирович угодливо кашляет в кулак:
— Прошу прощения, я бы советовал вперед убрать второй этаж, иначе работа затянется. Кирпичный бой и глину надо ссыпать подальше, чтобы пыль не летела в комнаты.
— Согласен. Но запомните: здесь не комнаты, а палаты и кабинеты. Ваша фамилия? Фельдшер, запишите: он назначается старшим. С него и спрашивайте. Итак, помните — два дня сроку.
Назначение Аверова обрадовало меня. Будет легче связаться с кем-нибудь на воле и бежать.
Хитрец Аверов прекрасно понимает, с кем имеет дело. Особенно он пришелся по душе Крамецу своими замечаниями о кабинете для главного врача.
— В палатах, — доказывает он Крамецу, — двери должны быть до половины стеклянные. Пусть больные знают, что за ними наблюдают. Но в кабинете главного врача — ни под каким видом. А вдруг кто из немцев захочет к вам зайти? Зачем лишние глаза! Я бы ваши двери обил коричневым дерматином. Еще бы мне с десяток латунных гвоздиков, таких, знаете, блестящих, с широкими шляпками… А стены? Зачем их белить? Если уж нельзя достать масляную краску, то хотя бы клеевую с колером или обои. Так будет приятнее вам и нашим посетителям.
Переделать без особого разрешения дверь главный врач не решается. Но зато он достал для своего кабинета ситцевые занавески. Вместо краски и обоев немцы выдали ему несколько порошков синьки. Аверов смешал ее с мелом и сам покрасил кабинет Крамеца.
Фельдшера главврач окончательно отстранил от хозяйственной деятельности после истории со стеклами…
А началась эта история вот с чего.
Каждый день, когда нас приводили на работу, мы обнаруживали в какой-нибудь палате выбитые окна.
В соседнем доме квартировали бельгийские солдаты. Они пьянствовали, буянили, приставали к женщинам. Но особой любовью у них пользовалась игра в мяч. Фельдшер вечно жаловался, что это именно они бьют стекла.
Однажды гауптман набрался смелости и отправился в сопровождении Аверова-переводчика к соседям. Оттуда они выскочили как ошпаренные, а вслед им неслось дикое улюлюканье и свист.
— Сумасшедшие! — ругался Крамец. — Да ладно, наплевать. Стекла у нас есть. Вот будет постоянная охрана, тогда и остеклим окна.
Верил и я, что стекла бьют веселые соседи лазарета. Но однажды я увидел, как Саша палкой, которой он только что размешивал глину, одним ударом раскрошил матовое стекло. Заметив меня, он замер. Вся кровь, казалось, отхлынула от лица.
После того как он так решительно заступился за Петю Ветлугина, мне захотелось подружиться с ним. Но Саша смотрел на меня зло, с недоверием, на мои вопросы отвечал сквозь зубы, разговаривал со мной редко и неохотно. Я понимал, что причиной тому моя кажущаяся близость с Аверовым. И вот теперь…
«Наябедничаешь?» — с презрением спросили его глаза.
Поблизости никого не было.
— Давай сюда палку, да поскорее…
Выбить еще два стекла не стоило большого труда. Ущерб, принесенный немцам, был столь незначителен, что и говорить о нем не стоило бы, но с этих пор началась наша с Сашей дружба. Несколько позже Саша пожаловался Аверову, что дикари опять «считали» наши стекла, и меня взял в свидетели.
— Ну их к дьяволу, — в сердцах сказал Аверов. — С ними разговаривать можно разве что пулеметами и пушками.
Пришел стекольщик. Принесли лестницу, и мы залезли на чердак, заваленный всяким хламом. Стекло в ящике, о котором столько говорил Крамец, было разбито на мелкие кусочки.
Стоило взглянуть на господина гауптмана в тот момент, когда ему доложили о случившемся!
С неожиданной для его рыхлого тела ловкостью он взобрался на чердак, а когда спустился, в лице не было ни кровинки. Он бегал из комнаты в комнату, словно сорвавшись с цепи, кричал, что мы сами рубим сук, на котором сидим, плевался, грозил, что нас всех упрячет в карцер. Фельдшера он наградил оплеухой. Потом сел писать рапорт начальству. А нас для острастки оставил без обеда.
Среди санитаров больше всех горячился Шумов, из кожи лез, доказывая, что виноват кто угодно, только не он.
— Тут дело не обошлось без вас, — показал он широким жестом на нас всех, — вот пускай и вешают того, кто заслужил, а я не хочу быть без вины виноватым.
Аверову, по-видимому, не понравилось, что Шумов его включил с нами в одну компанию. Он подошел к Степе и, наклонившись к его уху, будто собираясь поверить тайну, сказал громко:
— Чего треплешься, сопляк несчастный? Ежели человек громче всех кричит: «Держи вора», он сам и есть вор. Не из-за тебя ли все страдаем? Помнится мне, что несколько дней назад я тебя посылал на чердак за тряпьем.
— Аверов, вас зовет Пипин Короткий.
— Кто? — спросил Аверов удивленно у фельдшера.
— Главный врач. — Теперь, когда он допустил оплошность и при всех назвал гауптмана так, фельдшеру уже нечего было терять, и он говорил с Аверовым в нашем присутствии, не таясь. — Помните, только вы можете уговорить его не посылать рапорт. Отошлют — тогда нам всем крышка, запорют до смерти.

Творчество известного еврейского советского писателя Михаила Лева связано с событиями Великой Отечественной войны, борьбой с фашизмом. В романе «Длинные тени» рассказывается о героизме обреченных узников лагеря смерти Собибор, о послевоенной судьбе тех, кто остался в живых, об их усилиях по розыску нацистских палачей.

«Время идет не совсем так, как думаешь» — так начинается повествование шведской писательницы и журналистки, лауреата Августовской премии за лучший нон-фикшн (2011) и премии им. Рышарда Капущинского за лучший литературный репортаж (2013) Элисабет Осбринк. В своей биографии 1947 года, — года, в который началось восстановление послевоенной Европы, колонии получили независимость, а женщины эмансипировались, были также заложены основы холодной войны и взведены мины медленного действия на Ближнем востоке, — Осбринк перемежает цитаты из прессы и опубликованных источников, устные воспоминания и интервью с мастерски выстроенной лирической речью рассказчика, то беспристрастного наблюдателя, то участливого собеседника.

«Родина!.. Пожалуй, самое трудное в минувшей войне выпало на долю твоих матерей». Эти слова Зинаиды Трофимовны Главан в самой полной мере относятся к ней самой, отдавшей обоих своих сыновей за освобождение Родины. Книга рассказывает о детстве и юности Бориса Главана, о делах и гибели молодогвардейцев — так, как они сохранились в памяти матери.
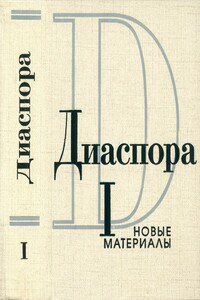
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поразительный по откровенности дневник нидерландского врача-геронтолога, философа и писателя Берта Кейзера, прослеживающий последний этап жизни пациентов дома милосердия, объединяющего клинику, дом престарелых и хоспис. Пронзительный реализм превращает читателя в соучастника всего, что происходит с персонажами книги. Судьбы людей складываются в мозаику ярких, глубоких художественных образов. Книга всесторонне и убедительно раскрывает физический и духовный подвиг врача, не оставляющего людей наедине со страданием; его самоотверженность в душевной поддержке неизлечимо больных, выбирающих порой добровольный уход из жизни (в Нидерландах легализована эвтаназия)

Автор этой документальной книги — не просто талантливый литератор, но и необычный человек. Он был осужден в Армении к смертной казни, которая заменена на пожизненное заключение. Читатель сможет познакомиться с исповедью человека, который, будучи в столь безнадежной ситуации, оказался способен не только на достойное мироощущение и духовный рост, но и на тшуву (так в иудаизме называется возврат к религиозной традиции, к вере предков). Книга рассказывает только о действительных событиях, в ней ничего не выдумано.

У меня ведь нет иллюзий, что мои слова и мой пройденный путь вдохновят кого-то. И всё же мне хочется рассказать о том, что было… Что не сбылось, то стало самостоятельной историей, напитанной фантазиями, желаниями, ожиданиями. Иногда такие истории важнее случившегося, ведь то, что случилось, уже никогда не изменится, а несбывшееся останется навсегда живым организмом в нематериальном мире. Несбывшееся живёт и в памяти, и в мечтах, и в каких-то иных сферах, коим нет определения.