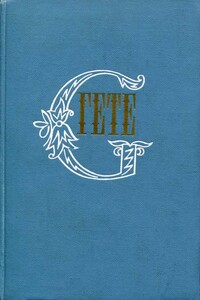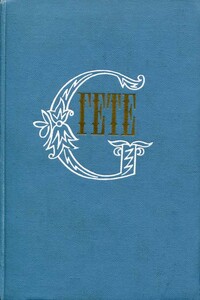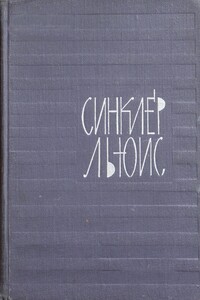Ну, ради Бога, объясните вы все, распинающие «плоть»: откуда взять этот «отрывок» бытия, серебристый звон голоса, когда его нет! Просто — нет! А ведь Пушкин психолог и понимает, что когда этого — нет, то вообще ничего нет между ними, кроме довольно скучного, скучающего «общего ложа» и привычной, конечно, милой, но не восхитительной столовой. Серебро — общее; посуда — общая; пожалуй, интересы — общие, и, конечно, знакомые. Но не общий — смех:
…Потупя взор
И губки алые кусая…
Это — не к нему, не к Пушкину обращено; могло бы обратиться к «Лидину», а за неимением его — вообще отсутствует. Да — нет, и только. Нет смеха; но вы требуете добродетели?! Плохие психологи. Пушкин им не был. Начертав эти стихи, он, конечно, конечно, понимал, что… ничего-то, ничевохенько общего между ним и женой — нет, и что тут — не ее вина (слова его о ней в день смерти: как он ее ценил!), а уж если и есть чья, то, после Бога, устроившего законы мира и бросившего солнце в свой путь, луну — в свой же другой, то еще вина — его, Пушкина, не нашедшего в мире своих путей или не пошедшего по своим путям. Да, как Перцов объясняет, «вина» — Пушкина, и именно здесь — в сфере «своего дома».
Пушкин был решительно груб с «Наташей» (да будет прощена дерзость так ее назвать). Он мог гениально ее ценить, но создать и выжать из себя форм обращения и быта, бытья, «житья-бытья» с той, о которой он записал первые, ранние впечатления:
Все в ней — гармония…
Все — выше мира и страстей:
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей,
Она кругом себя взирает —
Ей нет соперниц, нет подруг.
Красавиц наших бледный круг
В ее сиянье исчезает —
он не сумел.
В письме к жене, приведенном г. Рцы[1], Пушкин заговорил несколько как мастеровой. Пусть читатель перечтет письмо, справится.
«Наташа» получила письмо. Села, грустно откинулась назад. И уж не знаю, в какую минуту, но мы слышим из спаленки девушки, — увы, и в замужестве девушки:
Любви роскошная звезда,
Ты закатилась навсегда!
Да, и в замужестве девушки! Дайте договорить мысль! Она только фактически стала супругой и матерью, а поэтически и религиозно так и замерла, умерла девушкой. Ведь совершенно очевидно, что если есть поэзия и религия
в девстве и девственнице, то должна была настать и святость супружества, святость материнства:
Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю!
«Я не знаю, я не понимаю, я неопытна, однако тоже, перефразируя стихи поэта,
Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я хотела бы обитель:
………………………………
В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одну картину я б хотела вечно видеть:
…Чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель,
Она — с величием, Он с разумом в очах,
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона».
Она могла этого не написать, но она могла это почувствовать и даже, так сказать, практически к этому приуготовиться; как он мог написать, но вот практически-то к этому приуготовиться и не мог! Не тот тон. Совсем другие речи. И в основе всего — просто не тот возраст и не то «прошлое, прошлое!» — которого «не вернуть!». Пушкин в 16 лет написал — и с странным, страстно-нежным тоном в заключительной строке — «Леду», — сюжет, который, ей-ей, я узнал и он мне пришел в голову за 30 лет! Таким образом, этот маленький «Эрос», который мы называем Пушкиным, «зрелым» почти родился и дальше все «зрел» и «перегорал».
«Конечно, она не виновна. Но виноват… мир, Бог, Дантес, Геккерен, „ибо я так чрезмерно страдаю“, „так мне дурно“… Она обо мне не думает; я о ней всечасно думаю и почти перестал писать стихи, разучился писать (последний, какой-то пустынный фазис деятельности Пушкина), ибо все та же мысль сожрала, пожрала меня. Молюсь — и не вижу „образа“. Он не отвернулся, а просто поблек, умер в линиях, ушел куда-то внутрь».
Г. Рцы, приведя указанное выше письмо, пишет: «Чудные отношения (везде его курсивы).
Дай Бог каждому из нас найти такой верный тон, так гениально суметь избегнуть приторности, сантиментальности, прикрыв грубоватою корою товарищеских угловатостей эту чарующую нежность, эту сердечность, эту ласку… Он ее не любил!! Или она его? Да Ромео и Юлия так не любили друг друга, как могли любить друг друга Пушкины в браке, оставайся только несчастный поэт в Москве» (последний курсив мой)… и т. д. Строки до известной степени драгоценные, ибо именно так рассуждал, вероятно, не раз рассчитывая свое счастье по пальцам, Пушкин.
Дело в том, что тон письма Пушкина, действительно чудный и «Ромеовский», не есть «Ромеовский» универсально, но только резко определенной, узкой полосы бытия нашего, который и для Гончаровой должен был настать и, по-видимому, настал со вторым мужем, и она ему была «твердыней», успокоенною и счастливой; но с Пушкиным, в 17–22 года, не настал. Она имела свой тон, свои струны «Ромеовского» счастья, по которым не мог и не умел ударить… поэт.
Тут только и можно разобраться, «вознеся руку на сердце», ибо «законно» и внешне, как равно критически и литературно, мы, все, конечно, решим «по Пушкину» и «для Пушкина». Но ведь что в нашем-то, этаком решении? Ведь он, участник драмы, жалкое ее лицо — вещун, он — вещий.