Эротическая утопия - [12]
Моя попытка определить дискурс антипрокреативной утопии русского fin de siècle включает в себя исследование его ключевых тропов и отдельных метафор. Помимо палимпсеста, я уже упоминала фетишизм, анатомирование, кастрацию, кровь, вампиризм, андрогина и женщину под покрывалом или вуалью; надо также добавить обезглавливание и триангуляцию желания — все эти образы я рассматриваю в исторической перспективе. Тем самым я показываю, что магистральные тропы приобретают новые значения в новых культурных контекстах и в то же время вытесняют некоторые из прежних, таким образом расширяя и сужая круг референтных значений метафоры. Полученные слои формируют палимпсест, в котором, как в древних манускриптах, старый текст стирается, скрываясь под новыми напластованиями. Но, как я показываю, он остается у поверхности, ожидая, чтобы его извлек на свет и расшифровал читатель, готовый воспринимать культурное развитие не только как разрыв, но и как преемственность. В этом я следую за Шкловским, полагавшим, что принцип культурных слоев лежит в основе всей литературной истории. Он описывает его как процесс, в котором побежденная литературная линия «снова может воскреснуть, являясь вечным претендентом на престол»[64].
Это не означает, что герои данного исследования воспринимали свои утопические проекты в терминах культурной преемственности. Отнюдь! Как и русские революционеры и литературные новаторы, подобные Шкловскому, они ожидали разрыва. Склонные, как и большевики, к радикальным взглядам на «создание нового человека» и «завоевание природы», декаденты — утописты и их последователи жаждали радикальных перемен. Эта общность видения объясняет, почему те из них, кто дожил до революции 1905 г., приветствовали ее. Некоторые из них сначала приветствовали и большевистскую революцию, считая ее апокалиптическим событием.
Реализованная утопия большевиков выразила грандиозные, обманчивые и репрессивные мечты и практики эпохи. Нам остается только высказывать предположения о репрессивных возможностях реализованной эротической утопии (хотя я и говорю о некоторых ее репрессивных и обманчивых аспектах). Эротическое воздержание, без которого преображение жизни не могло иметь места, должно было стать тотальной сексуальной практикой, вытесняющей осуществление эротического желания умозрительной виртуальностью. Но как пример модернизма символистский и предсимволистский жизнетворческий проект представляет собой поразительное слияние жизни и искусства.
Глава 1. Лев Толстой как модернист
Фрагментация и анатомирование тела
Виктор Шкловский начинает биографию писателя с главы под названием «О зеленом диване, который потом был обит черной клеенкой». Глава посвящена кожаному дивану с гвоздиками с золочеными шляпками, с тремя ящиками у основания и выдвижной подставкой для книг с каждой стороны. Диван из кабинета Толстого в Ясной Поляне, где он стоит и по сей день, в повествовании Шкловского начинает жить собственной жизнью. Именно он, а не дворянский род Толстого или произведения писателя становится для биографа воплощением продолжения рода и порождения текста.
На этом диване, сообщает Шкловский, родился патриарх русской литературы, этот диван — единственное, что сохранилось от родительского дома Толстого; на нем же увидели свет большинство из тринадцати его детей. Когда писателя спрашивали, где он родился, он отвечал: «В Ясной Поляне на кожаном диване». «Из всех вещей в доме Лев Николаевич любил, вероятно, больше всего кожаный диван, — пишет Шкловский. — Этот диван должен был быть плотом, на котором от рождения до смерти хотел плыть через жизнь Лев Николаевич Толстой»[1].
Шкловский утверждает, что диван для Толстого был не только местом рождения, но и хранилищем литературных произведений: «В ящиках дивана он хранил те рукописи, которые хотел сберечь от перелистывания, рассматривания» любопытствующими членами семьи[2]. Для Шкловского (интересовавшегося, кстати, многофункциональной конструктивистской мебелью 1920–х гг.) диван, по — видимому, представлял собой столкровать, т. е. локус, в котором совмещались деторождение и писательство[3]. Его рассуждение о ложе Толстого исходит из единства творчества и прокреативности. Однако когда поздний Толстой отрекся от идеала прокреативной семьи, диван стал надежным прибежищем «незаконнорожденных детей», выходивших из‑под его пера. В отличие от «обычных детей» — плоти от плоти его — это были «духовные дети»: в соответствии с известной идеей Платона, они «прекраснее и бессмертнее»[4].
Постель Толстого привлекает такое внимание Шкловского, ибо писателя сопровождала слава одного из крупнейших авторов семейного романа. «Война и мир» для XIX века — незыблемый монумент прокреативности и жизненной силе природы, подобно тому как яснополянский зеленый диван являлся символом рода Толстых. В «Войне и мире», где прославление тела как объекта литературного описания достигает у Толстого высшей точки, семья и генеалогия осмысляются как биологическая преемственность. Торжество семейных ценностей в этом романе и в «Анне Карениной» отражает размышления писателя об отношениях невидимого природного целого и его видимых частей, не оставлявшие его на протяжении всей жизни.

Погребение является одним из универсальных институтов, необходимых как отдельному человеку, так и целому обществу для сохранения памяти об умерших. Похоронные обряды, регламентированные во многих культурных традициях, структурируют эмоции и поведение не только скорбящих, но и всех присутствующих. Ольга Матич описывает кладбища не только как ценные источники местной истории, но прежде всего – как музеи искусства, исследуя архитектурные и скульптурные особенности отдельных памятников, надгробные жанры и их художественную специфику, отражающую эпоху: барокко, неоклассицизм, романтизм, модерн и так далее.

«Физическое, интеллектуальное и нравственное вырождение человеческого рода» Б. А. Мореля и «Цветы зла» Ш. Бодлера появились в 1857 году. Они были опубликованы в эпоху, провозглашавшую прогресс и теорию эволюции Ч. Дарвина, но при этом представляли пессимистическое видение эволюции человечества. Труд Мореля впервые внес во французскую медицинскую науку понятие физического «вырождения»; стихи Бодлера оказались провозвестниками декаданса в европейских литературах. Ретроспективно мы можем констатировать, что совпадение в датах появления этих двух текстов свидетельствует о возникновении во второй половине XIX века нового культурного дискурса.

Ольга Матич (р. 1940) – русская американка из семьи старых эмигрантов. Ее двоюродный дед со стороны матери – политический деятель и писатель Василий Шульгин, двоюродная бабушка – художница Елена Киселева, любимица Репина. Родной дед Александр Билимович, один из первых русских экономистов, применявших математический метод, был членом «Особого совещания» у Деникина. Отец по «воле случая» в тринадцать лет попал в Белую армию и вместе с ней уехал за границу. «Семейные хроники», первая часть воспоминаний, охватывают историю семьи (и ей близких людей), начиная с прадедов.

Постмодернизм отождествляют с современностью и пытаются с ним расстаться, благословляют его и проклинают. Но без постмодерна как состояния культуры невозможно представить себе ни одно явление современности. Александр Викторович Марков предлагает рассматривать постмодерн как школу критического мышления и одновременно как необходимый этап взаимодействия университетской учености и массовой культуры. В курсе лекций постмодернизм не сводится ни к идеологиям, ни к литературному стилю, но изучается как эпоха со своими открытиями и возможностями.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Мемуары русского художника, мастера городского пейзажа, участника творческого объединения «Мир искусства», художественного критика.

В книге рассказывается об интересных особенностях монументального декора на фасадах жилых и общественных зданий в Петербурге, Хельсинки и Риге. Автор привлекает широкий культурологический материал, позволяющий глубже окунуться в эпоху модерна. Издание предназначено как для специалистов-искусствоведов, так и для широкого круга читателей.
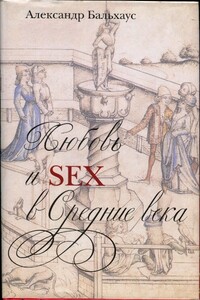
Средневековье — эпоха контрастов, противоречий и больших перемен. Но что думали и как чувствовали люди, жившие в те времена? Чем были для них любовь, нежность, сексуальность? Неужели наше отношение к интимной стороне жизни так уж отличается от средневекового? Книга «Любовь и секс в Средние века» дает нам возможность отправиться в путешествие по этому историческому периоду, полному поразительных крайностей. Картина, нарисованная немецким историком Александром Бальхаусом, позволяет взглянуть на личную жизнь европейцев 500-1500 гг.

В каждой эпохе среди правителей и простых людей всегда попадались провокаторы и подлецы – те, кто нарушал правила и показывал людям дурной пример. И, по мнению автора, именно их поведение дает ключ к пониманию того, как функционирует наше общество. Эта книга – блестящее и увлекательное исследование мира эпохи Тюдоров и Стюартов, в котором вы найдете ответы на самые неожиданные вопросы: Как подобрать идеальное оскорбление, чтобы создать проблемы себе и окружающим? Почему цитирование Шекспира может оказаться не только неуместным, но и совершенно неприемлемым? Как оттолкнуть от себя человека, просто показав ему изнанку своей шляпы? Какие способы издевательств над проповедником, солдатом или просто соседом окажутся самыми лучшими? Окунитесь в дерзкий мир Елизаветинской Англии!