Ермола - [45]
Стариком постепенно овладевало возраставшее беспокойство, когда ему представлялась мысль, что родители, приучая мальчика к новому быту, уморят его излишней заботливостью или суровым, холодным обращением. Отец и мать любили Родионку, но любовь их не походила на привязанность Ермолы. Привыкнув сами к суровости ротмистра, они скрывали чувство под холодной наружностью, не умели обходиться с ребенком, не умели действовать на него словами, потому что не вынянчили его от колыбели. Родионка скорее боялся их, нежели понимал. Одним словом, названный отец был для него родным, а родной только названным.
Чем далее отходил старик от Попельни и Малычек, тем сильнее подмывало его возвратиться на родину. И вот однажды решительно повернул он на дорогу к Малычкам, решаясь увидеть еще раз, хоть издали Родионку, или, по крайней мере, узнать о нем. На этот раз ноги служили удивительно, никогда он не чувствовал такой легкости, и хоть ему предстояло верст пятнадцать, однако, он сделал их в один день и к вечеру очутился в Малычках. Ему надо было пройти всю деревню, чтобы достигнуть корчмы, где, правда, он боялся быть узнанным, но должен был искать ночлега. Поравнявшись с хатой гончара Прокопа, старик удивился опустошению; огород был почти без ограды, груша, под которой стояла печь, засохла, да и самая печь, поросшая бурьяном, представлялась каким-то старым пожарищем. В хате, по-видимому, никто не жил, потому что она была без окон, крыша ободрана, стены опускались в землю, и дверь была подперта колышком снаружи. Впрочем, это случилось весьма просто. Дочь Прокопа вышла замуж в другую хату, муж ее, хоть и владел обеими усадьбами, но жил на своей; внаймы отдать было некому, и хата Прокопа опустела совершенно после полугодового в ней пребывания соседки-солдатки. И странная мысль пришла в голову Ермоле.
— Что, если бы мне нанять ее как-нибудь и здесь поселиться! — подумал он. — Может быть, удалось бы хоть изредка видеть Родионку. Кому там какое до меня дело! Да меня и не узнали и не заметили бы! Я хоть но ночам прокрадывался бы под окно моего мальчика.
Слезы навернулись ему на глаза, он остановился и начал вспоминать старого Прокопа, как послышался женский голос из огорода, где в это время выбирали коноплю.
— А что это вы, дедушка, остановились среди дороги, еще кто-нибудь вас переедет: разве не видите, что повозки спускаются под гору?
Ермола взглянул и узнал дочь Прокопа, Настю, которая вдвоем с девушкой работали в огороде; не она не узнала его. Заключив по голосу, что Настя должна быть добрая женщина, старик подумал и подошел к ней ближе.
Эта была молодица в цвете лет и здоровая, красивая, большого роста, может быть, полна немного, но могла служить типом хорошенькой крестьянки. С живым румянцем, с черными глазами, с малиновым ротиком, она дышала веселостью, свободой и силой, а белизна зубов, показывавшихся при каждой улыбке, казалась еще резче при несколько загорелом цвете лица. Была она действительно добрая, жалостливая женщина, немножко ветреная, но отличная хозяйка. Любила она похохотать и повеселиться, но не преступала обязанностей ни верной жены, ни заботливой матери. Муж ее, сын самого богатого в селе хозяина Колесника — небольшой, сухощавый, слабый человек, слушался ее, как матери, и боялся, как огня, страстно любил ее и готов был хоть на ножи за свою Настю.
— Не узнали вы меня, Настя, — сказал, подходя старик. — Я ведь Ермола, старинный ваш знакомый, что учился гончарству у покойного отца вашего Прокопа.
— Как? Это вы? Нищий с сумой! Что же с вами сталось? У вас был в руках кусок хлеба! Разве старость…
— О, долго пришлось бы рассказывать. Конечно, вы знаете, что я воспитал вашему пану сына.
— Об этом все говорят.
— У меня его отняли.
— Да ведь это же их дитя, а не ваше.
— О, нет, Настенька, оно и мое отчасти! А теперь мне не позволяют и смотреть на него, словно боятся, чтобы я, Боже сохрани, не сглазил. Надоела мне жизнь: сюда не пускают, в Попельни одному скучно, потому что кума-казачиха умерла, вот я и пошел по миру.
— Бедный старик! Вам так стало грустно об мальчике.
— Это было мое, мое единственное дитя, и его у меня отняли!.. Оно начало сохнуть, слабеть, и, Бог знает, что с ним будет. Мне даже не позволяют видеться с ним!.. Скажите же сами, есть ли у них совесть! Сам пан выгнал меня и сказал, чтобы ноги моей не была у него в доме.
— Может ли это быть?
— Клянусь истинным Богом!
— А значит, оказывается кровь ротмистра: будет такой же, как и отец, — проговорила Настя несколько тише, осматриваясь. — Выгнать так своего благодетеля!
— Вот отчего я пошел по миру, а когда удалился отсюда, мне так скучно стало о мальчике, я и воротился, чтобы хоть взглянуть на него.
— И видели?
— Нет, еще только иду… И сам не знаю, где преклонить голову.
— Заходите к нам.
— Спасибо, Настя, да наградит Бог за это детей твоих: не могу, боюсь увидят. Я не хочу, чтобы во дворе знали обо мне. Не удастся ли увидеть мальчика. Но скажите, Прокопова хата так и стоит пустой?
— А что же? Она уже развалилась; после солдатки некому было жить в ней. Того и гляди упадет.
— А пока упадет?

Захватывающий роман И. Крашевского «Фаворитки короля Августа II» переносит читателя в годы Северной войны, когда польской короной владел блистательный курфюрст Саксонский Август II, прозванный современниками «Сильным». В сборник также вошло произведение «Дон Жуан на троне» — наиболее полная биография Августа Сильного, созданная графом Сан Сальватором.

«Буря шумела, и ливень всё лил,Шумно сбегая с горы исполинской.Он был недвижим, лишь смех сатанинскойСиние губы его шевелил…».

Юзеф Игнацы Крашевский родился 28 июля 1812 года в Варшаве, в шляхетской семье. В 1829-30 годах он учился в Вильнюсском университете. За участие в тайном патриотическом кружке Крашевский был заключен царским правительством в тюрьму, где провел почти два …В четвертый том Собрания сочинений вошли историческая повесть из польских народных сказаний `Твардовский`, роман из литовской старины `Кунигас`, и исторический роман `Комедианты`.
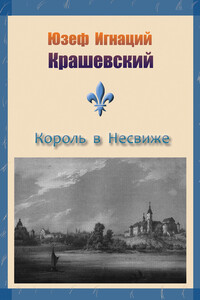
В творчестве Крашевского особое место занимают романы о восстании 1863 года, о предшествующих ему событиях, а также об эмиграции после его провала: «Дитя Старого Города», «Шпион», «Красная пара», «Русский», «Гибриды», «Еврей», «Майская ночь», «На востоке», «Странники», «В изгнании», «Дедушка», «Мы и они». Крашевский был свидетелем назревающего взрыва и критично отзывался о политике маркграфа Велопольского. Он придерживался умеренных позиций (был «белым»), и после восстания ему приказали покинуть Польшу.

Польский писатель Юзеф Игнацы Крашевский (1812–1887) известен как крупный, талантливый исторический романист, предтеча и наставник польского реализма. В шестой том Собрания сочинений вошли повести `Последний из Секиринских`, `Уляна`, `Осторожнеес огнем` и романы `Болеславцы` и `Чудаки`.

В 1-й том Собрания сочинений Ванды Василевской вошли её первые произведения — повесть «Облик дня», отразившая беспросветное существование трудящихся в буржуазной Польше и высокое мужество, проявляемое рабочими в борьбе против эксплуатации, и роман «Родина», рассказывающий историю жизни батрака Кржисяка, жизни, в которой всё подавлено борьбой с голодом и холодом, бесправным трудом на помещика.Содержание:Е. Усиевич. Ванда Василевская. (Критико-биографический очерк).Облик дня. (Повесть).Родина. (Роман).

В 7 том вошли два романа: «Неоконченный портрет» — о жизни и деятельности тридцать второго президента США Франклина Д. Рузвельта и «Нюрнбергские призраки», рассказывающий о главарях фашистской Германии, пытающихся сохранить остатки партийного аппарата нацистов в первые месяцы капитуляции…

«Тысячи лет знаменитейшие, малоизвестные и совсем безымянные философы самых разных направлений и школ ломают свои мудрые головы над вечно влекущим вопросом: что есть на земле человек?Одни, добросовестно принимая это двуногое существо за вершину творения, обнаруживают в нем светочь разума, сосуд благородства, средоточие как мелких, будничных, повседневных, так и высших, возвышенных добродетелей, каких не встречается и не может встретиться в обездушенном, бездуховном царстве природы, и с таким утверждением можно было бы согласиться, если бы не оставалось несколько непонятным, из каких мутных источников проистекают бесчеловечные пытки, костры инквизиции, избиения невинных младенцев, истребления целых народов, городов и цивилизаций, ныне погребенных под зыбучими песками безводных пустынь или под запорошенными пеплом обломками собственных башен и стен…».

В чём причины нелюбви к Россиии западноевропейского этносообщества, включающего его продукты в Северной Америке, Австралии и пр? Причём неприятие это отнюдь не началось с СССР – но имеет тысячелетние корни. И дело конечно не в одном, обычном для любого этноса, национализме – к народам, например, Финляндии, Венгрии или прибалтийских государств отношение куда как более терпимое. Может быть дело в несносном (для иных) менталитете российских ( в основе русских) – но, допустим, индусы не столь категоричны.

Тяжкие испытания выпали на долю героев повести, но такой насыщенной грандиозными событиями жизни можно только позавидовать.Василий, родившийся в пригороде тихого Чернигова перед Первой мировой, знать не знал, что успеет и царя-батюшку повидать, и на «золотом троне» с батькой Махно посидеть. Никогда и в голову не могло ему прийти, что будет он по навету арестован как враг народа и член банды, терроризировавшей многострадальное мирное население. Будет осужден балаганным судом и поедет на многие годы «осваивать» колымские просторы.

В книгу русского поэта Павла Винтмана (1918–1942), жизнь которого оборвала война, вошли стихотворения, свидетельствующие о его активной гражданской позиции, мужественные и драматические, нередко преисполненные предчувствием гибели, а также письма с войны и воспоминания о поэте.

«Дочь фараона» (1864) Георга-Морица Эберса – это самый первый художественный роман автора. Действие в нем протекает в Древнем Египте и Персии времен фараона Амазиса II (570—526 до н. э.). Это роман о любви и предательстве, о гордости и ревности, о молодости и безумии. Этот роман – о власти над людьми и над собой, о доверии, о чести, о страданиях. При несомненно интересных сюжетных линиях, роман привлекает еще и точностью и правдивостью описания быта древних египтян и персов, их обычаев, одежды, привычек.

Георг Борн – величайший мастер повествования, в совершенстве постигший тот набор приемов и авторских трюков, что позволяют постоянно держать читателя в напряжении. В его романах всегда есть сложнейшая интрига, а точнее, такое хитросплетение интриг политических и любовных, что внимание читателя всегда напряжено до предела в ожидании новых неожиданных поворотов сюжета. Затаив дыхание, следит читатель Борна за борьбой человеческих самолюбий, несколько раз на протяжении каждого романа достигающей особого накала.
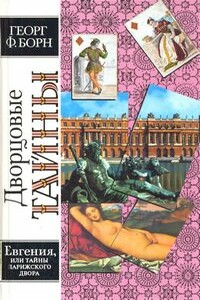
Георг Борн — величайший мастер повествования, в совершенстве постигший тот набор приемов и авторских трюков, что позволяют постоянно держать читателя в напряжении. В его романах всегда есть сложнейшая интрига, а точнее, такое хитросплетение интриг политических и любовных, что внимание читателя всегда напряжено до предела в ожидании новых неожиданных поворотов сюжета. Затаив дыхание, следит читатель Борна за борьбой самолюбий и воль, несколько раз достигающей особого накала в романе.
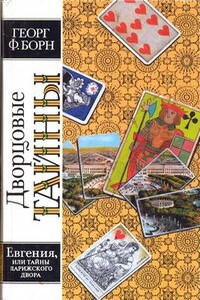
Георг Борн — величайший мастер повествования, в совершенстве постигший тот набор приемов и авторских трюков, что позволяют постоянно держать читателя в напряжении. В его романах всегда есть сложнейшая интрига, а точнее, такое хитросплетение интриг политических и любовных, что внимание читателя всегда напряжено до предела в ожидании новых неожиданных поворотов сюжета. Затаив дыхание, следит читатель Борна за борьбой самолюбий и воль, несколько раз достигающей особого накала в романе.
