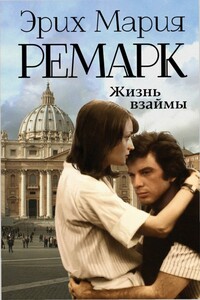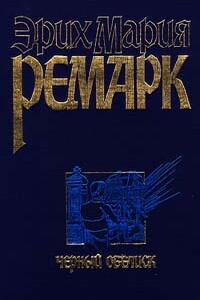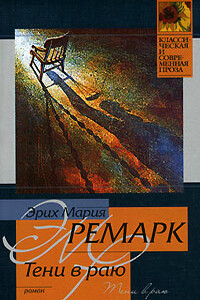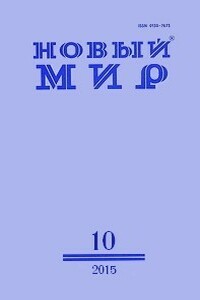В девять часов вечера Герхарт забеспокоился. В половине десятого стало видно, что его организм бросил в бой последние резервы. В десять он работал, как локомотив: пот струился по его лицу, он дрожал и с трудом дышал, легкие его хрипели, кривящийся рот хватал воздух. Он медленно задыхался, но был в сознании.
— Дайте ему морфия, сестра, чтобы он сразу успокоился, — попросил я.
Она покачала головой и ответила:
— Это противоречит вере.
— Тогда дайте его мне, — сказал я. — Просто из сострадания! Поставьте его здесь. И забудьте, когда будете уходить.
Она посмотрела на меня.
— Смерть только в руках Господа, — произнесла она и добавила: — Если бы это было не так, как можно было бы вынести здесь…
В половине одиннадцатого Брокманну стало так худо, что я не мог больше на это смотреть. Я должен был что-то сделать и внезапно я понял что.
Я не могу вспомнить, как я вышел. И как я узнал, в какой палате лежит девушка. К счастью, мне никто не встретился по дороге. Что я говорил ей, стоя в дверях, я тоже не помню. Но, наверное, она меня поняла, потому что пошла со мной, не задавая лишних вопросов.
Она села на койку Брокманна и взяла его за руки. Я видел, как она при этом содрогнулась от ужаса, но держалась она мужественно. И произошло то, на что я даже и не надеялся: Герхарт успокоился. Правда, он все еще хрипел, но не так мучительно.
Ночная сестра пришла в двенадцать. Это была толстая медсестра, единственная, которую все не любили. Увидев девушку, она вздрогнула. Я попытался ей все объяснить. Но она только отрицательно покачала головой. Больница была католической, здесь с такими вещами было очень строго. Для сестры было привычно, что каждый день кто-то умирает; намного непривычнее было для нее увидеть ночью в нашей палате девушку.
— Фройляйн не может оставаться здесь, — сказала она и посмотрела на меня.
— Но… — попытался возразить я и показал на койку.
Сестра едва взглянула туда.
— Он ведь успокоился, — заявила она нетерпеливо. — Фройляйн должна уйти! Немедленно! Она же не родственница.
Девушка покраснела. Она отпустила его руки и хотела подняться. Но тут с губ Герхарта сорвался булькающий звук, на его искаженном лице появился ужас, мне показалось, что он крикнул: «Анна».
— Останьтесь, — в бешенстве сказал я и встал между девушкой и сестрой. Мне уже было все равно.
Сестра задрожала от возмущения. Она обратилась прямо к девушке:
— Фройляйн, покиньте палату! Я останусь с больным.
— Этого не нужно, — возразил я грубо. — Он достаточно часто злился из-за вас.
Она понеслась к двери.
— Тогда мне придется доложить! Я немедленно иду к господину директору!
— Иди к черту, старая сова! — выругался я ей вслед.
Весь в напряжении, возбужденный, я ждал, что теперь будет. Я был полон решимости никого больше не пускать в палату. Теперь это касалось только Герхарта и меня. И никого больше.
Но никто больше и не пришел.
Герхарт умер на второе утро после Рождества. Он умирал легко и под конец словно просто заснул. Девушка оставалась рядом с ним, пока все не кончилось. После этого мы молча шли по тускло освещенному коридору. Теперь, когда все было кончено, та история с сестрой меня очень тревожила. Госпиталь не шутил в таких вопросах. Мне-то было все равно, но вполне могло случиться, что девушке пришлось бы покинуть больницу.
— Будем надеяться, что они не очень сильно будут вас ругать, — сказал я подавленно.
Она махнула рукой, глядя прямо перед собой.
— Мне все равно… по сравнению с этим…
Я взглянул на нее. Ее лицо совершенно изменилось. В тот вечер, когда она пела со своим классом, это было лицо еще молоденькой девушки, сейчас — строгое, собранное лицо человека, который многое знает и знаком со страданием.
Пока я возвращался один, я все время думал об этом — и странно: когда за окнами зазвонили колокола к заутрене, я в первый раз с тех пор, как стал солдатом, ощутил покой, почувствовал, что сделал что-то хорошее; теперь я снова знал, что, кроме войны и разрушения, существует и нечто иное и что оно вернется. Спокойный и собранный, вернулся я в свою палату, наполненную серо-золотым светом утра. Там в своей кровати лежал уже не простой солдат Герхарт Брокманн. Там лежал вечный Товарищ, а его смерть не внушала больше ужаса, она была заветом и обещанием. Я снова улегся на соседнюю койку, ощущая покой и безопасность.
Вы, декабрьские ночи 1917 года! Вы, ночи муки и ужаса! В вашей непостижимой тоске просыпались надежда и человечность! Вы никогда не должны быть забыты, никогда не должно исчезнуть ваше предостережение, никогда…