Эпизод из жизни ни павы, ни вороны - [50]
— Гм… Всякий рабочий — наемный человек.
— «На боку лежать да деньги получать!»
— Это действительно обидно; но… У вас есть семья?
— Нет.
— Так… Собственно, мне следовало бы начать с этого вопроса. Не связаны — значит, имеете возможность отстаивать, как говорится, свою честь… В противном случае дело было бы сложнее.
«Специалист», который вне семейства назывался Алексеем Петровичем, замолчал, закурил папироску и как-то съежился на своем стуле. Он говорил слабым, словно пришибленным, голосом. «Наемный человек», уже успевший облегчить себя исповедью, тоже о чем-то задумался и молча отпивал чай. Они сидели в маленькой горнице с земляным полом, низким потолком и голыми, неровными стенами, смазанными известкой, — среди очень живописного беспорядка. На столе, покрытом грубою полотняною скатертью, у окна лежало несколько книг, тетрадей, стол какой-то, кабинетный портрет, в изящных рамках, лампа под зеленым бумажным абажуром, статуэтка Шевченки и маленький самовар. У другого окна стоял токарный станок. На полу валялась сапожная щетка, надбитая бутылка с керосином, несколько гаек, ствол револьвера и курок от ружья. Тощий диван у стены, два некрашеных стула и сундук у дверей в соседнюю спальню были единственными представителями мебели. Это было обиталище «специалиста». Изба стояла среди поселка, верстах в трех от леса. Хотя «наемному человеку», в положении Владимира Сергеича, довольно естественно было примкнуть к оппозиции, но попал он к Алексею Петровичу случайно: брел наудачу, чтобы переночевать в первом жилье и наутро послать за вещами и расчетом. Они видели друг друга в первый раз, но когда общими силами поставили самовар и выпивали по второму стакану, то уже так сблизились, словно век были знакомы. Впрочем, Владимир Сергеич был «много наслышан».
Тихие ангелы летали очень долго. «Специалисту» это, казалось, было за обычай, но «наемный человек» наконец почувствовал себя неловко. Он придвинул портрет и начал рассматривать. Красивая молодая женщина с загадочным взглядом.
— Вот вам целая коллекция, — сказал Алексей Петрович, вынимая из ящика альбом.
Он вдруг оживился и заговорил с болтливостью, свойственною долго молчавшим людям, когда они нападают на тему и собеседника по душе:
— Здесь больше фигурирует моя собственная персона, но зато вы увидите связную историю моей жизни… моих заблуждений. Это ведь одно и то же, не правда ли? — и тут же сам ответил. — Конечно, неправда: я разумею только себя.
Первая карточка представляла мальчика, лет двенадцати или десяти, в бархатной курточке, в больших отложных воротничках, панталонах до колен и полосатых чулках. Он сидел в небрежной позе на табуретке и держал руку на голове огромного водолаза.
— Сережа? — спросил Владимир Сергеич.
— Нет, я, № 1, подающий большие надежды… Вы ничего не находите в сем отроке этакого адмиральского?
Не было ничего адмиральского.
— Напрасно… Меня готовили в адмиралы и вместе, само собою, с гениальными способностями находили даже физическое приспособление к этой должности. А вот № 2.
Он показал гимназиста, тонкого, тщедушного, с неопределенным выражением физиономии.
Неопределенность… Гениальные способности начинают, впрочем, крепнуть и выясняться в умении сводить концы с концами пред начальством и дражайшими родителями, несмотря на крупные неприятности вроде двоек и карцера, которым увенчалась первая, несчастная любовь…
Он переменил портрет и продолжал:
- № 3, начало карьеры. Свет не клином сошелся на адмиральстве. Если мальчик не мог, вследствие неблагоприятных обстоятельств, сделаться адмиралом, то он будет фельдмаршалом.
Владимир Сергеич, несмотря на свое печальное настроение духа, чуть не прыснул со смеху. «То был гусарский офицер», в полной парадной форме, во весь рост. Он лихо опирался на саблю, но лицо было такое плаксивое, худенькое тело так походило на вешалку, на которой болталось красивое платье, что нельзя было и вообразить себе лучшего изображения рыцаря печального образа в юном возрасте.
— Вы были в военной службе?
— Как изволите видеть.
Он выдернул офицера, посмотрел на него несколько минут, как бы что-то вспоминая, потом бросил с видимой досадой и открыл худощавого юношу в статском. В последнем уже можно было узнать черты Алексея Петровича.
— Я в роли Фауста, — пояснил он в том же тоне, — студент-юрист. Зубрю запоем тетрадки и таким нехитрым путем думаю получить ответы на очень мудреные вопросы.
— А фельдмаршальство как же?
— Фельдмаршальство? Рассуждая последовательно, следовало бы допустить, что если гениальный юноша не мог сделаться фельдмаршалом, то он будет министром, да спрашивайте вы логики у влюбленных родителей!
Я с ними рассорился… Еще Фауст. Студент-филолог. Изучаю историю, разочаровавшись в прежних тетрадках; но вы видите, что нервы мои притупились, и я готов продать душу черту… С этого времени меня дома «специалистом» прозвали. Название, надо вам знать, крайне презрительное… А вот я у дела.
Группа изображала несколько гимназистов и Попутнова в педагогическом вицмундире.
— Просвещаю юношество. Преподаю по Иловайскому историю, которая, как известно, «судит мертвых и дает уроки живым». Интересный мне вспомнился урок, — начал он после небольшого молчания, всматриваясь в лица гимназистов и улыбаясь: в четвертом классе был урок из римской истории. Один бойкий мальчик рассказывал, как Брут осудил на смерть собственного сына. Я его остановил. «Скажите, пожалуйста, как вы думаете: хорошо поступил Брут?» Мальчик посмотрел на меня пытливо и после маленького колебания ответил: «Хорошо». Класс оживился. По лицам некоторых видно было, что они недовольны нерешительным ответом товарища. Я спросил другого, третьего: «Хорошо, конечно хорошо». — «Ну а вы так же ли поступили бы с собственным сыном?» — «Разумеется! Еще бы!» И такие брутские выражения, что беда! У них не было сыновей… «Прекрасно. Но если это справедливо относительно сына, то должно быть справедливо и наоборот, относительно отца. Если б вы были в положении Брута и к вам привели виновного отца: вы его тоже осудили бы на смерть?» Последовало молчание и потом робкое «нет» и кое-где «да». Я предложил им поспорить. Вышел очень оживленный дебат. «Если казнил чужих, то должен был казнить и своего». — «Ему следовало отказаться от суда над собственным сыном». — «Зачем казнить и чужих? Лучше совсем не казнить». Но пришел директор, задал несколько вопросов по книжке и после класса сделал мне выговор…
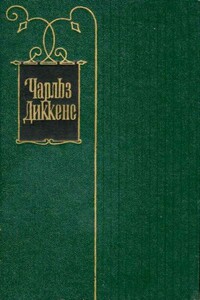
Роман повествует о жизни семьи юноши Николаса Никльби, которая, после потери отца семейства, была вынуждена просить помощи у бесчестного и коварного дяди Ральфа. Последний разбивает семью, отослав Николаса учительствовать в отдаленную сельскую школу-приют для мальчиков, а его сестру Кейт собирается по собственному почину выдать замуж. Возмущенный жестокими порядками и обращением с воспитанниками в школе, юноша сбегает оттуда в компании мальчика-беспризорника. Так начинается противостояние между отважным Николасом и его жестоким дядей Ральфом.
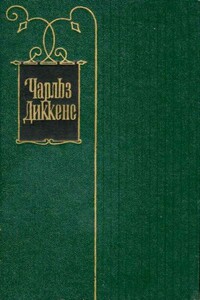
«Посмертные записки Пиквикского клуба» — первый роман английского писателя Чарльза Диккенса, впервые выпущенный издательством «Чепмен и Холл» в 1836 — 1837 годах. Вместо того чтобы по предложению издателя Уильяма Холла писать сопроводительный текст к серии картинок художника-иллюстратора Роберта Сеймура, Диккенс создал роман о клубе путешествующих по Англии и наблюдающих «человеческую природу». Такой замысел позволил писателю изобразить в своем произведении нравы старой Англии и многообразие (темпераментов) в традиции Бена Джонсона. Образ мистера Пиквика, обаятельного нелепого чудака, давно приобрел литературное бессмертие наравне с Дон Кихотом, Тартюфом и Хлестаковым.
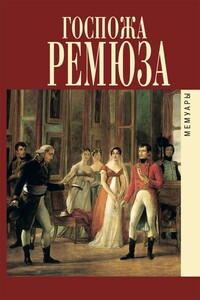
Один из трех самых знаменитых (наряду с воспоминаниями госпожи де Сталь и герцогини Абрантес) женских мемуаров о Наполеоне принадлежит перу фрейлины императрицы Жозефины. Мемуары госпожи Ремюза вышли в свет в конце семидесятых годов XIX века. Они сразу возбудили сильный интерес и выдержали целый ряд изданий. Этот интерес объясняется как незаурядным талантом автора, так и эпохой, которая изображается в мемуарах. Госпожа Ремюза была придворной дамой при дворе Жозефины, и мемуары посвящены периоду с 1802-го до 1808 года, т. е.

«Замок Альберта, или Движущийся скелет» — одно из самых популярных в свое время произведений английской готики, насыщенное мрачными замками, монастырями, роковыми страстями, убийствами и даже нотками черного юмора. Русский перевод «Замка Альберта» переиздается нами впервые за два с лишним века.

«Анекдоты о императоре Павле Первом, самодержце Всероссийском» — книга Евдокима Тыртова, в которой собраны воспоминания современников русского императора о некоторых эпизодах его жизни. Автор указывает, что использовал сочинения иностранных и русских писателей, в которых был изображен Павел Первый, с тем, чтобы собрать воедино все исторические свидетельства об этом великом человеке. В начале книги Тыртов прославляет монархию как единственно верный способ государственного устройства. Далее идет краткий портрет русского самодержца.

Горящий светильник» (1907) — один из лучших авторских сборников знаменитого американского писателя О. Генри (1862-1910), в котором с большим мастерством и теплом выписаны образы простых жителей Нью-Йорка — клерков, продавцов, безработных, домохозяек, бродяг… Огромный город пытается подмять их под себя, подчинить строгим законам, убить в них искреннюю любовь и внушить, что в жизни лишь деньги играют роль. И герои сборника, каждый по-своему, пытаются противостоять этому и остаться самим собой. Рассказ впервые опубликован в 1904 г.