Эннеады - [175]
Впрочем, даже при этом условии созерцающий ум может видеть этот свет не вне себя, оказываясь и тут подобным глазу, который иногда или при отсутствии внешнего света, или независимо от него, внезапно среди темноты видит еще более яркий и чистый, чем внешний, свой собственный, изнутри его истекающий свет; так бывает, когда мы, не желая смотреть ни на что внешнее, закрываем веки намеренно, чтобы видеть только этот, самим глазом источаемый свет, а то для этого еще и придавливаем веки; во всех таких случаях глаз наш не видит ничего внешнего, однако же видит — видит даже нечто большее и лучшее, чем всегда, а именно сам свет, потому что все предметы, которые он обыкновенно видит, суть только освещаемые светом, но не свет.
Подобно глазу и наш ум, когда закроет свой взор от всех свойственных ему предметов и всецело сосредоточится в себе самом, тогда и он может, не видя ничего, узреть нечто — узреть не тот отраженный свет, который присущ всему, находящемуся вне его, но свет сам по себе во всей его чистоте, узреть его, когда он не извне, а внутри его самого внезапно появится и озарит его.
В тот самый момент, когда ум наш озаряется таким светом, он не знает, откуда именно явился этот свет, извне или изнутри, а когда видение прекратится, уму кажется, что свет был как будто внутри его, а как будто и нет. Впрочем, совсем излишне решать, откуда этот свет, потому что сам вопрос о месте по отношению к нему не имеет смысла: он и не приближается к нам, и не удаляется от нас, но только иногда является нам, а иногда — нет. Поэтому, если кто-либо желает узреть этот свет, тому нет надобности искать его, но следует спокойно ожидать, пока он не появится. Следует только надлежащим образом подготовить себя к его созерцанию, подобно тому, как и нашему глазу приходится ждать, пока солнце не взойдет и не выглянет из-за горизонта, или, как говорят поэты, пока оно не выплывет из океана.
Откуда же восходит тот, кому наше солнце есть лишь некоторое подобие? На какой высоте, выше чего он является? Конечно, он выше даже созерцающего ума, а потому для ума ничего более не остается, как оцепенеть в его созерцании, всего себя отдать и погрузиться в зрелище этой чистейшей красоты, наполняясь силой и мощью и чувствуя себя более прекрасным и светлым от созерцания самого первого — Высочайшего, в непосредственной близости к нему.
Само Первоединое не приходит в подобном случае, оно просто является как бы ниоткуда, ибо предстает оно созерцанию не как идущее откуда-то, а как тут же вне и превыше всего присутствующее прежде, чем ум приблизится к нему. Не оно к ум, но ум или приближается к нему, или отдаляется от него, когда не знает, где ему самому следует пребывать. Первоединое нигде и ни в чем, и если бы ум наш был таким же, тогда он непрестанно созерцал бы Первоединое — и даже более того — пребывал бы в нем, был бы единым с ним. В нынешнем же состоянии наш ум, обладая разумением, может созерцать Первоединое лишь тогда, когда устремляется к нему той своей стороной, которая не есть мысль, но выше мысли.
Пожалуй, может показаться дивным и странным, что Первоединое является нашему уму, не приближаясь к нам, и что оно, не находясь нигде, не отсутствует, однако, там, где его нет. Удивляться этому вполне естественно в нашем обычном положении. Но кто сподобился узреть Первоединое, тот скорее удивился бы, если бы было иначе, зная, что иначе и быть не может. Пусть себе желающий удивляться удивляется сколько ему угодно, но на самом деле все обстоит именно так, а не иначе.
Все, происшедшее от другого начала, пребывает или в произведшем его начале, или в чем-нибудь другом, если это другое после или ниже производящего начала, ибо что произведено другим и нуждается в нем для своего существования во всей своей целостности, то должно и содержаться в этом другом всецело. Вполне естественно, что вещи последнего, низшего порядка содержатся в вещах, которые стоят непосредственно выше их, а те, в свою очередь, содержатся в вещах высшего порядка, и так далее, вплоть до Первого начала. Что же касается самого этого Первого начала, то понятно, что не имея над собой ничего еще более высшего, оно не заключается ни в чем другом.
Наоборот, так как само оно не заключается ни в чем другом, между тем как каждый порядок других вещей содержится в предшествующем ему, то оно содержит в себе все другие вещи, объемлет их, но при этом не разделяет себя в них, ибо хотя оно и обладает ими, но они им не обладают. Так как оно всеми ими обладает, не будучи ими обладаемо, то оно вездеприсуще, ибо если бы не присутствовало везде, то и не обладало бы всем.
Но, с другой стороны, если вещи не обладают им, то, значит, оно и присутствует в них, и не присутствует. Так оно и есть на самом деле: Первое начало не присуще вещам в том смысле, что они не содержат его в себе, и присутствует в них в том смысле, что ему, свободному и независимому от них, ничто и нигде не препятствует присутствовать. В противном же случае, то есть, если бы что-либо мешало ему быть где-либо, то это значило бы, что оно ограничивается другим началом и что вещи, которые после и ниже его, не могут участвовать в нем.

Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных трансформаций неустойчивого миропорядка.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.

Книга посвящена интерпретации взаимодействия эстетических поисков русского модернизма и нациестроительных идей и интересов, складывающихся в образованном сообществе в поздний имперский период. Она охватывает время от формирования группы «Мир искусства» (1898) до периода Первой мировой войны и включает в свой анализ сферы изобразительного искусства, литературы, музыки и театра. Основным объектом интерпретации в книге является метадискурс русского модернизма – критика, эссеистика и программные декларации, в которых происходило формирование представления о «национальном» в сфере эстетической.
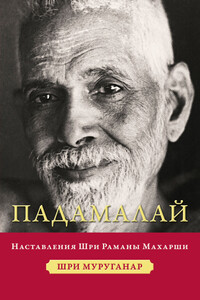
Книга содержит собрание устных наставлений Раманы Махарши (1879–1950) – наиболее почитаемого просветленного Учителя адвайты XX века, – а также поясняющие материалы, взятые из разных источников. Наряду с «Гуру вачака коваи» это собрание устных наставлений – наиболее глубокое и широкое изложение учения Раманы Махарши, записанное его учеником Муруганаром.Сам Муруганар публично признан Раманой Махарши как «упрочившийся в состоянии внутреннего Блаженства», поэтому его изложение без искажений передает суть и все тонкости наставлений великого Учителя.

Автор книги профессор Георг Менде – один из видных философов Германской Демократической Республики. «Путь Карла Маркса от революционного демократа к коммунисту» – исследование первого периода идейного развития К. Маркса (1837 – 1844 гг.).Г. Менде в своем небольшом, но ценном труде широко анализирует многие документы, раскрывающие становление К. Маркса как коммуниста, теоретика и вождя революционно-освободительного движения пролетариата.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.