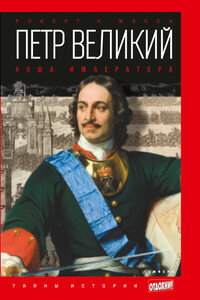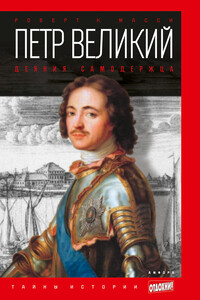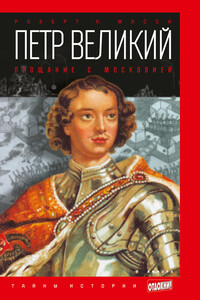Неудавшийся побег спровоцировал повсеместные разговоры о необходимости спасти монарха и его семью. До конца июня брат Марии Антуанетты, новый император Леопольд II Австрийский, призывал всех правителей Европы помочь восстановить во Франции монархию. Леопольд, унаследовавший престол от своего старшего брата Иосифа II, правил всего один год. Его призыв был неискренним, скорее, даже лживым, поскольку в тот момент он не имел никаких намерений возглавить или даже участвовать в про-французской военной операции. Но тревога Леопольда привела его к встрече с королем Фридрихом Вильгельмом Прусским на курорте в Пильнице, в Саксонии. К двум монархам присоединился самонадеянный брат Людовика XVI, граф Артуа, который прибыл без приглашения и потребовал немедленного вмешательства.
Декларация, подписанная в Пильнице 27 августа 1791 года, утихомирила графа Артуа. В ней были изложены аргументы Леопольда о том, что судьба французской монархии «представляла для всех интерес», кроме того, она призывала других европейских монархов помочь в принятии «самых эффективных мер по возведению короля Франции на трон». Никаких конкретных шагов не предлагалось. Леопольд был осторожен, поскольку в унаследованной от брата империи Нидерланды находились на грани переворота, да и в остальных ее частях было неспокойно. В то же самое время он не мог игнорировать то плачевное положение, в котором оказались его сестра и зять, пребывавшие в тот момент в Париже. Он понимал, что теперь они оба находились в серьезной опасности. С другой стороны, Леопольд переживал, что военное вмешательство, на котором так настаивал Артуа, подвергло бы жизнь его сестры еще большему риску. В конечном счете, Леопольд принял решение, что он может выступить против Франции только в союзе с другими державами, поскольку знал – в таком случае он обезопасит себя. Следовательно, Пильницкая декларация позволяла Австрии не предпринимать никаких активных мер. По сути, она не решила ничего, но зато вызвала сильное недовольство Национального собрания, и восемь месяцев спустя в апреле 1792 года Франция объявила войну Австрии. К тому времени Леопольда, внезапно умершего в марте того же года, сменил его неопытный, двадцатичетырехлетний сын, Франциск II.
События первых двух лет Французской революции – с весны 1789 года до лета 1791 года – свободно освещались в русской прессе. На новости из Франции не накладывалось никакой цензуры, как и на новости о только что возникших Соединенных Штатах Америки, создавших свою республиканскую конституцию и обнародовавших ее. Созыв Генеральных штатов, декларация третьего сословия, формирование Национальной ассамблеи, штурм Бастилии, отмена привилегий для дворянства, Декларация прав человека – все это полностью публиковалось в переводе на русский в «Санкт-Петербургской газете» и «Московской газете». По словам Филиппа де Сегюра, падение Бастилии вызвало в России большой энтузиазм: «Французы, русские, датчане, немцы, англичане и голландцы… все поздравляли и обнимали друг друга на улицах».
Когда третье сословие создало Национальное собрание и Екатерина поняла, что к крестьянам и буржуа присоединились дворяне, желавшие дать им политические и социальные привилегии, которыми обладали сами, она была потрясена. «Не могу поверить, что сапожники и башмачники обладают талантом руководить правительством и принимать законы», – писала она Гримму. Через несколько недель на смену ее удивлению пришла тревога. «Это сущая анархия! – восклицала она в сентябре 1789 года. – Они способны повесить своего короля на фонарном столбе!» Особенно ее волновала судьба Марии Антуанетты: «Помимо всего, я надеюсь, что положение королевы будет под стать моему живейшему интересу к ней. Мужество восторжествует над всеми угрозами. Я люблю ее как мою дорогую сестру моего лучшего друга Иосифа II и восхищаюсь ее смелостью… Она может быть уверена, что, если ей понадобится моя помощь, я выполню свой долг». Но пока Россия вела войну на двух фронтах: на юге – против Турции, и на Балтике – против Швеции, она не могла исполнить своей «долг», однако могла интерпретировать это понятие.
К октябрю 1789 года Екатерина поняла, что во Франции произошла настоящая революция, угрожающая монархии всей Европы. Это поставило ее в сложное положение в отношении Филиппа де Сегюра. Когда через четыре года службы в России в качестве посла он явился к императрице, чтобы проститься, Екатерина передала ему дружественное послание для его короля, а также дала несколько личных советов:
«Мне грустно, что вы уезжаете. Было бы лучше, если бы вы остались здесь со мной, а не бросались бы в пучину, которая может оказаться гораздо глубже, чем вы думаете. Ваши познания в новой философии, ваша страсть к свободе, возможно, приведут к тому, что вы примкнете к популярной партии. Мне будет жаль, потому что я останусь аристократкой. Это мое métier[13]. Помните, когда вы приедете во Францию, то обнаружите, что она охвачена сильной лихорадкой и очень больна».
Сегюр, не менее огорченный разлукой, ответил: «Я тоже боюсь этого, мадам, но именно поэтому считаю своим долгом вернуться». Когда Екатерина пригласила его остаться на обед и оказала ему невероятно теплый прием, расставание стало особенно трудным. «Когда я уходил, то думал, что это лишь временный отъезд, – писал Сегюр в одном из своих писем. – Отъезд был бы намного более болезненным, если бы я знал, что вижу ее в последний раз».