Эго, или Наделенный собой - [23]
На самом деле, желание vita beata разделяет с первоначалом, или первопринципом, его привилегию: перед его лицом мгновенно уходит и исчезает любое сомнение. Сомнение устраняется уже не единичным актом мысли, предполагающим существование, а принципиальной невозможностью желать жизни, не желая при этом жизни счастливой; иначе говоря: никто не может жить, не желая жить, и никто не может желать жить в несчастий. Даже если в жизни человека нет ничего, что связывают обычно со счастьем, если он сознательно ведет жизнь аскетическую, жертвенную, полную самоистязания и лишений, состояние это всегда для него в какой-то степени желанно, поскольку воспринимается человеком как парадоксальный, но верный путь к блаженной жизни. Перформативное противоречие, на которое преимущественно и опиралась аргументация картезианского cogito (я не могу помыслить что бы то ни было, даже то, что меня нет, без того, чтобы уже быть – следовательно, я есмь), уходит в тень другого противоречия, которое куда более радикально, ибо не предполагает никакого перформативного акта мысли, опираясь лишь на чистую фактичность желания: никто не согласится жить жизнью, лишенной блаженства, или, по крайней мере, его возможности: «„censesne quemquam hominum non omnibus modis velle atque optare vitam beatam?" – „Quis dubitat omnem hominem velle?" («„думаешь ли ты, что найдется хотя бы один человек, который не хотел бы и не желал бы счастливой жизни любой ценой?" – „Кто усомнился бы, что всякий человек хочет быть счастлив?"» (De Libera Arbitrio, I, 14, 30, 6, 194)). Из невозможности усомниться в этом следует возможность в этом удостовериться: «Beate certe omnes vivere volumus; neque quisquam est in hominum genere, qui huic sententiae, antequam plene sit emissa, consentiat» («Достоверно, что все мы хотим жить счастливо, и во всем роде человеческом не найдется никого, кто не согласился бы с этим утверждением даже не дослушав его до конца» (De moribus Ecclesiae Catholicae et de moribus Manicheorum, I, 3, 4, BA 1, 140)). Таким образом, этот принцип формулируется в виде следующего достоверного положения: «Omnium certa sententia est, qui ratione quoquo modo uti possunt, beatos esse omnes homines velle» («Для всех тех, кто может хоть в малой степени пользоваться разумом, достоверно положение, что все люди хотят жить счастливо» (De Civitate Dei, X, 1, 34, 422)). Речь идет, таким образом, о достоверности, ведущей к максимально достоверному, certissimum[101], знанию, которое заступает на место картезианского «неколебимого», [inconcussum][102]: на смену cogitatio, которое знает, приходит желание, которое хочет; на смену бытию, которое можно вызвать, приходит жизнь, которую я могу лишь принять; на смену невозможности мыслить (себя) без бытия приходит невозможность желать жизни, которая не была бы счастливой. Тот же самый разум из теоретического обращается в практический, и та же самая мысль обретает свое начало лишь ценой желания. Ибо речь идет об inconcussum желания, а следовательно, о нехватке, а вовсе не о довлеющем себе знании. А значит, об inconcussum, которое мыслит себя, лишь себя не зная, inconcussum, которое познает себя, не выводя себя из себя самого, а получая себя от того, кто живит его как желание. Ибо vita beata принимается, как и любая другая, извне: она не только не исключение из этого правила, она его узаконивает и освящает.
Итак, мы имеем дело с парадоксом такого незыблемого первого принципа, мыслить который можно, однако, лишь как безусловное желание блаженства, которого мы не испытывали и которого нам, возможно, по определению испытать не дано. Речь, иными словами, идет об абсолютно достоверном принципе, который мы тем не менее ничем не способны удостоверить. «Mirum est autem cum capessendae atque retienendae beatitudinis voluntas una sit omnium, unde tanta existat de ipsa beatitudine rursus varietas atque diversitas voluntatum, non quod aliquis earn nolit, sed quod non omnes earn norint. <…>. Quomodo igitur ferventissime amant omnes, quod non omnes sciunt? Quis potest amare quod nescit? <…>. Cur ergo beatitudo amatur ab omnibus, nec tamen scitur ab omnibus?» («Поразительно, что хотя воля добиваться блаженства и сохранять его одна и та же у всех, число и разнообразие ее проявлений необычайно велико – не потому, что кто-то не хочет блаженства, а потому, что оно не ведомо никому. <…>. Почему же любят они так страстно то, что всем им неведомо? Кто способен полюбить то, о чем не знает? <…>. Почему все любят блаженство и никто не знает его?»

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.
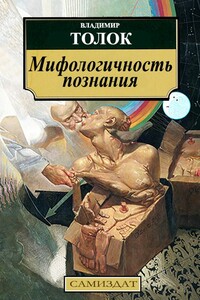
Жизнь — это миф между прошлым мифом и будущим. Внутри мифа существует не только человек, но и окружающие его вещи, а также планеты, звезды, галактики и вся вселенная. Все мы находимся во вселенском мифе, созданным творцом. Человек благодаря своему разуму и воображению может творить собственные мифы, но многие из них плохо сочетаются с вселенским мифом. Дисгармоничными мифами насыщено все информационное пространство вокруг современного человека, в результате у людей накапливается множество проблем.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Михаил Наумович Эпштейн (р. 1950) – один из самых известных философов и теоретиков культуры постсоветского времени, автор множества публикаций в области филологии и лингвистики, заслуженный профессор Университета Эмори (Атланта, США). Еще в годы перестройки он сформулировал целый ряд новых философских принципов, поставил вопрос о возможности целенаправленного обогащения языковых систем и занялся разработкой проективного словаря гуманитарных наук. Всю свою карьеру Эпштейн методично нарушал границы и выходил за рамки существующих академических дисциплин и моделей мышления.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.

Вальтер Беньямин – воплощение образцового интеллектуала XX века; философ, не имеющий возможности найти своего места в стремительно меняющемся культурном ландшафте своей страны и всей Европы, гонимый и преследуемый, углубляющийся в недра гуманитарного знания – классического и актуального, – импульсивный и мятежный, но неизменно находящийся в первом ряду ведущих мыслителей своего времени. Каждая работа Беньямина – емкое, но глубочайшее событие для философии и культуры, а также повод для нового переосмысления классических представлений о различных феноменах современности. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

«Совершенное преступление» – это возвращение к теме «Симулякров и симуляции» спустя 15 лет, когда предсказанная Бодрийяром гиперреальность воплотилась в жизнь под названием виртуальной реальности, а с разнообразными симулякрами и симуляцией столкнулся буквально каждый. Но что при этом стало с реальностью? Она исчезла. И не просто исчезла, а, как заявляет автор, ее убили. Убийство реальности – это и есть совершенное преступление. Расследованию этого убийства, его причин и следствий, посвящен этот захватывающий философский детектив, ставший самой переводимой книгой Бодрийяра.«Заговор искусства» – сборник статей и интервью, посвященный теме современного искусства, на которое Бодрийяр оказал самое непосредственное влияние.

Серия «Фигуры Философии» – это библиотека интеллектуальной литературы, где представлены наиболее значимые мыслители XX–XXI веков, оказавшие колоссальное влияние на различные дискурсы современности. Книги серии – способ освоиться и сориентироваться в актуальном интеллектуальном пространстве. Один из самых значительных философов современности Ален Бадью обращается к молодому поколению юношей и девушек с наставлением об истинной жизни. В нынешние времена такое нравоучение интеллектуала в лучших традициях Сократа могло бы выглядеть как скандал и дерзкая провокация, но смелость и бескомпромиссность Бадью делает эту попытку вернуть мысль об истинной жизни в философию более чем достойной внимания.

В красном углу ринга – философ Славой Жижек, воинствующий атеист, представляющий критически-материалистическую позицию против религиозных иллюзий; в синем углу – «радикально-православный богослов» Джон Милбанк, влиятельный и провокационный мыслитель, который утверждает, что богословие – это единственная основа, на которой могут стоять знания, политика и этика. В этой книге читателя ждут три раунда яростной полемики с впечатляющими приемами, захватами и проходами. К финальному гонгу читатель поймет, что подобного интеллектуального зрелища еще не было в истории. Дебаты в «Монструозности Христа» касаются будущего религии, светской жизни и политической надежды в свете чудовищного события: Бог стал человеком.