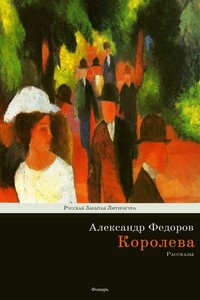Едва Стрельников вышел из дома, им овладела такая усталость, что хотелось лечь здесь же, на улице, на грязной мостовой. В этом состоянии сказывалась не одна физическая слабость, но и какая-то потребность унижения. Он сознавал теперь, что виноват кругом, и, несмотря на злобу, еще не вполне угомонившуюся в нем, острее всего сознавал, что поступил нехорошо, оскорбив так женщину, которая любила его сильно, даже беззаветно.
Может быть, в этой любви и таился главный ужас для него. Нет гнета более тяжкого, чем любовь, которая не нужна, но с которой связан крепкими узами.
Со смертью девочки эти узы, очевидно, распались; тем нестерпимее каждая попытка снова их спаять.
И все же он не должен был так поступать.
Если бы не было другой вины, еще более ужасной в его глазах, он способен был бы вернуться назад и от жестокостей перейти к покаянию: подобное уже бывало раньше. В такие минуты он склонен был к истинному великодушию, и в такой крайности для него заключалась своя слабость.
Но сейчас вернуться он не мог. Давила вина еще большая. Потому большая, что она была совершена перед той, кого он любил, из-за кого и произошла вся катастрофа.
Он спешил к ней, чтобы покаяться во всем и этим хоть немного облегчить то бремя, которое никто не мог снять с его души.
На этот раз она приняла его у себя. Дома никого не было.
Взглянув ему в лицо, она сразу догадалась, что произошло что-то печальное и важное, и это печальное и важное заключалось не только в том, что он похоронил свою дочь.
Но она не испугалась и не растерялась, а прониклась к нему глубокой жалостью и желанием успокоить его во что бы то ни стало.
В ее сияющих глазах была покорная готовность для него на все.
С особой серьезностью, почти строгостью, она проговорила:
— Ничего не скрывай от меня. Ничего.
В этом «ты», которому вчера было положено начало и которое нынче было произнесено ею так просто, заключалось для него целое откровение. Верно, и ее отец обращался так же к исповедникам, и она восприняла эту черту от отца.
Это еще более приблизило его к ней.
— Садись вот здесь и говори, — сказала она ему, указывая место возле себя на диване. И сама зябко закуталась в знакомый белый вязаный платок и с ногами забилась в уголок дивана.
Тихо проговорила:
— Мне немножко нездоровится нынче.
— Может быть, ты вчера простудилась?
— Нет, это не то. Ну, садись же, я слушаю.
Но он предпочел остаться у окна.
Наступали сумерки; они шли с моря, которое открывалось из окон так близко, близко. Серое было море, серое небо. И серые сумерки, точно рожденные этим небом и морем, подошли к окнам и обволокли их своей дрожащей паутиной.
Таинственно проникли в комнату, и она в этих сумерках как будто становилась все менее и менее реальной.
Так хорошо, так легче ему было исповедоваться перед ней.
Долго не мог начать. Прислушивался, как все ныло и томилось в нем. Слова казались ничтожными, не имевшими того смысла, который от них требовался. И, когда он, наконец, заговорил, было почти стыдно слов, и оттого, верно, очень трудно было стать вполне искренним.
Хотелось много объяснить, внушить. Он то и дело ждал, что она остановит его негодованием, криком, даже плачем. Замолчал и смотрел на нее с тоскливым вопросом.
Но она сидела, не шевелясь, все больше и больше окутываясь сумерками, по временам как бы теряясь в них и тем вызывая на такие признания, всю силу и мрачность которых он проникал лишь теперь. Раскрывались бездны, полные смрада и отчаяния. Он не щадил себя. Ничего не скрыл, рассказал все, что было, и про свое кощунство и про то чудовищное, что произошло вслед за тем.
Тут он услышал рыдание. Оно было тихое и как будто далекое, но в нем таилась такая горестная печаль, что он застонал, бросился от окна к дивану, где вся она сжалась в какой-то комочек, потерявшийся в сумраке. И упал на колени и искал ее руки.
Он бы вполне ее понял и не осудил, если бы она теперь оттолкнула его.
— Я не должен, не должен был говорить все, — вырвалось у него в отчаянии.
Но она, продолжая горестно и тихо рыдать, проговорила:
— Нет, это хорошо, что ты сказал. Так надо, так надо.
Похолодевшие руки его дрожали в ее руках. Ей не легко далось это отпущение, и оно было так неожиданно, что потрясло его.
Он так же зарыдал и упал ей головой в колени, как это случалось с ним в детстве, когда, провинившись и раскаявшись, искал прощения у матери.
Слезы ее падали на его руки, и руки теплели от них, и в самом прикосновении этих милых рук к лицу его и глазам была отрада невыразимая.
Так они плакали долго, как бы поверяя друг другу этими рыданиями и слезами то, чего в словах нельзя было высказать.