Ecce homo - [8]
Оскалившись на залитое кровавой краской солнце, он с лёгкостью поднялся на дрожащие, широко расставленные ноги, скинул опостылевший рюкзак, и, шатаясь, как пьяный, направился в лес. Теперь он твёрдо знал, что именно надо делать. Не разбирая дороги, не замечая сучьев, хлеставших его по щекам, гогоча во всю глотку, шёл он по лесу, наскоро готовящемуся к ночи.
Недобрые силы проснулись, засопели, свирепо заурчали в глубине чащи, потянулись к нему когтистыми корявыми щупальцами, но отступили, признавши в нём своего. Переполненные звериной упругостью ноги вынесли его на середину поляны. Здесь он оглядел вздрогнувшие ряды сосен, достал складной нож и рывком раскрыл его зубами, отстучавшими по лезвию шубертовскую прелюдию. Из порванного в клочья языка и исполосанных дёсен закапала на рубашку тяжёлая приторная на вкус жидкость. Затем он хищным скачком подлетел к канистре и упал на неё, как на закланного тельца. Точно также, смеясь и задыхаясь, он трижды ударил её под ключицу, пробил жестяную, украшенную позолотой кирасу, и её терпкая кровь заструилась по его пальцам и груди. Он встал и начал поливать из канистры зябкие кустики черники, остовы престарелых деревьев, молодые дубки и рябины. Все они, получив бензиновое причастие, также принимались безудержно хохотать. Опустившись на мелко трясущиеся колени, он осторожно слил себе в ладони тонкую струю горючей смеси, тщательно омыл израненное лицо, вытер руки о нежную кожу земли и посмотрел вверх.
Небо было томно–красным. Последние стрелы солнца, выбиваясь из–за вершины горы, освещали ущелье. Он вгляделся в уже ночную поляну и ещё пуще, до боли в сведённой судорогой диафрагме залился смехом, чувствуя, что невидимый, затаившийся в буреломе охотник скривил губы в поощрительную улыбку. Ударом ноги он отбросил к магическому кругу кострища канистру, успевшую щедро омочить последними каплями оскаленный череп быка; он поднял его бережно, взявшись правой рукой за верхнюю челюсть; левой он вытащил зажигалку из кармана рваных, пропитанных бензином брюк и надавил на колёсико. Бычий оскал, одежда, руки, лицо, волосы вспыхнули мгновенно; широко размахнувшись, он метнул горящий череп в лес, тотчас окруживший его огненной стеной и, выкрикивая что–то невнятное: «ант, анте, анти», в блаженстве боли, разрываемый на части хохотом, и тут же пеплом и дымом уносясь в небеса, кинулся в самую глубь чащи, туда, где его давно ждали.
Бор содрогался, ревел раненым яком, метался яростной медведицей и, гогоча, погибал. Охваченные огнём лиственницы и сосны факелами освещали весело подмигивающий небосвод. Вскоре пламя перекинулось на виноградник, принялось с хрустом пожирать его, и к запаху смолы и хвои прибавился дух молодого вина. И всю ночь напролёт, из чудовищного, достигающего гранитной вершины костра, изумлённому, насилу спасшемуся из сгоревшей полотняной палатки рыбаку чудились смех на тысячу разных ладов, бешеные крики, повторяющие одно и то же короткое слово, и снова дикий, громогласный смех. А утром, когда наконец солнце почтительно взглянуло в зыбкие воды озёр, огонь иссяк. Но обнажённая, обугленная гора ещё долго тихо курилась, словно силилась вспомнить нечто важное и таинственное.
Шёненбух, ноябрь 2001
БЛАГОДАТЬ
А! А–а–а-а-а! Ещё немножко! Ещё! Ах, как хорошо! А! А–а–а-а–а–а-а!.. Ой, что это было? Я ещё сплю? Нет, наверное. Но как это было здорово! Оно плескалось внутри меня, как море, отзывчивое, тёплое, бархатистое на ощупь. И сейчас там всё ещё мягко, радостно, как во вчерашней сказке. Про кого мне рассказывала мама? Про мальчика с дудочкой! Дудочку эту он подносил к губам, перебирал по ней пальцами, выдувая из неё серебряную россыпь звуков. Затем он вошёл в воду. А потом? Волна. Ещё волна. Тут–то я и заснула. Голос мамы смешался с шёпотом волшебного прибоя; как глубоко он дышал! Как лошадка после галопа! А злые крысы метались по пляжу, вовсю щёлкая зубами, так что чудилось мне, будто майские жуки да мохнатые ночницы бьются в моё окно.
А как пахло это море! Душистой тиной; ласковыми водорослями–невидимками; пеной с кусачей кипрской гальки, о которую прошлым летом я порезала ступню; дальними странами: Луизианой, Квебеком, Сайгоном и той землёй из папиной книжки — как она называется? — то, что растёт на дереве, сочное, сладкое, с шероховатой кожицей?
Этой ночью что–то случилось. Во сне всегда что–нибудь да происходит. Как хочется поделиться всем этим с мамочкой, с папой, с бабушкой, с Рене, а я ничего не могу припомнить! Жаль! Так, наверное, будет всю жизнь!
«Да! Да! Да! Да!» — верещу я что есть мочи, как милый господин Журден со сцены. Даром что весь зал хохотал над ним. Какие они гадкие! А я плакала. Я не жалела Журдена. Нет! Я просто понимала, как ему хорошо и отчего он выкрикивает это сухое «Д», которое, как волнорез, разобьёт, но не удержит непоседливое и у меня в животе живущее «А». И я уверена, что мы бы превосходно поиграли с этим умным, добрым дедушкой в цветастом кафтане и роскошной шляпе со страусовыми перьями. А ещё я хотела, чтобы он познакомился с бабушкой — она ведь одна! Да и ему не нужно было бы больше терпеть свою противную жену, которая всё мешала лапочке господину Журдену проказничать с друзьями. «Да!», — в последний раз выкрикиваю я. Уф, как хорошо! И совсем, совсем не хочется вставать.

Анатолий Ливри, философ, эллинист, поэт, прозаик, бывший преподаватель Сорбонны, ныне славист Университета Ниццы-SophiaAntipolis, автор «Набокова Ницшеанца» (русский вариант «Алетейя» Ст.-Петербург, 2005; французский « Hermann »,Paris, 2010) и «Физиологии Сверхчеловека» («Алетейя» 2011), лауреат литературной премии им. Марка Алданова 2010.
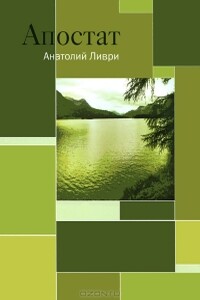
Анатолий Ливри, писатель, эллинист, философ, преподаватель университета Ниццы — Sophia Antipolis, автор восьми книг, опубликованных в России и в Париже. Его философские работы получили признание немецкой «Ассоциации Фридрих Ницше» и неоднократно публиковались Гумбольдским Университетом. В России Анатолий Ливри получил две международные премии: «Серебряная Литера» и «Эврика!» за монографию «Набоков ницшеанец» («Алетейя», Петербург, 2005), опубликованную по-французски в 2010 парижским издательством «Hermann», а сейчас готовящуюся к публикации на немецком языке.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.
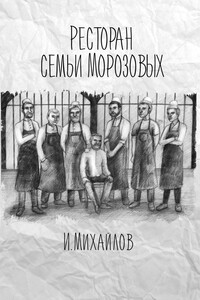
Приветствую тебя, мой дорогой читатель! Книга, к прочтению которой ты приступаешь, повествует о мире общепита изнутри. Мире, наполненном своими героями и историями. Будь ты начинающий повар или именитый шеф, а может даже человек, далёкий от кулинарии, всё равно в книге найдёшь что-то близкое сердцу. Приятного прочтения!

Логики больше нет. Ее похороны организуют умалишенные, захватившие власть в психбольнице и учинившие в ней культ; и все идет своим свихнутым чередом, пока на поминки не заявляется непрошеный гость. Так начинается матово-черная комедия Микаэля Дессе, в которой с мироздания съезжает крыша, смех встречает смерть, а Даниил Хармс — Дэвида Линча.

ББК 84. Р7 84(2Рос=Рус)6 П 58 В. Попов Запомните нас такими. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003. — 288 с. ISBN 5-94214-058-8 «Запомните нас такими» — это улыбка шириной в сорок лет. Известный петербургский прозаик, мастер гротеска, Валерий Попов, начинает свои веселые мемуары с воспоминаний о встречах с друзьями-гениями в начале шестидесятых, затем идут едкие байки о монстрах застоя, и заканчивает он убийственным эссе об идолах современности. Любимый прием Попова — гротеск: превращение ужасного в смешное. Книга так же включает повесть «Свободное плавание» — о некоторых забавных странностях петербургской жизни. Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Администрации Санкт-Петербурга © Валерий Попов, 2003 © Издательство журнала «Звезда», 2003 © Сергей Шараев, худож.