Ecce homo - [53]
Чернеет Альбион–неряха, тень
Свою нагнать пытаясь. Я весь день
Смотрю, как в терпком хмеле
Крадутся дюны к изумрудной Стелле,
А после, ночью, на индиговой косе
Шепчу шершавыми губами сгинувшим атлантам:
«Bisogna avere un caos dentro d’sè,
Per generare má stella danzante».
Трупы атлантов действительно плавали неподалёку, высовывая из волн пальцы, увенчанные почему–то триколорами; звезды и впрямь танцевали. Псы, так те вовсе перебесились. А в ночь, когда Герберт сочинил эти строки, ему исполнилось тридцать три года. Тридцать три! — чуете ли вы это?! Поэму же Герберт назвал Роды.
Тогда Герберт изумился своей способности насытиться этой белокурой девицей также чувственно, как и бурей той, прошлой, венгерской смуглянки, переполненной духом скифских земель, некогда не приемлющих виноградной лозы, — уж как отыгрался на них бог–винокур! Как покуражился! Ха! Недолговечная варварская отказчивость! Хлипковатое амазонское упрямство!
А ведь после расставания с ней, три года кряду Герберт жаждал сызнова припасть иссохшим ртом к сосцам её грудей! Истощёнными веками обезумевшего от мести зверя — к налитой страстью пупочке, коричневевшей ещё пуще в мгновения любовного пыла, от которого всё её тело вдруг набухало тяжкой влагалищной влагой.
Впрочем, плебеи–мифологи, это вам не Гекуба, и не Гебов кубок, уворованный северным мытарем! — что делать?! Вам остаётся только разинуть зловонные пасти в небеса, вы, тянущиеся к Брокену пролетарии с юдольным взором, на который, сколько Герберт себя ни помнил, у него всегда был развит чудовищнейший рвотный рефлекс! Ешьте, вот, пока дают, дармовую амброзию, переиначивающую кровушку в ихор! Только, — ох! — не глядите, не глядите на меня так! Руки проч–ч–ч-а–а–а-а-анххх!
Где уж вам понять священную муку трёхлетнего всасывания вселенских мистерий свежей раной, которой всё жаднее, всё сладострастнее, всё ненасытнее припадал Герберт к планетному лезвию (изощрённому, словно бритва для доселе невиданной брит–милы) в ожидании нового пореза, а через него — нового прыщущего напора неистовых тайн. Вот она, величайшая военная хитрость Распятого — Иудейского Роммеля! Назаретского Бонапарта!: благословлять щепотью правой руки Сатану, — кровоточащими пальцами! — точно эякулировать во вражье око соком раздавленной виноградины.
За эти три года Герберт избегал все горные тропы по сю сторону Стикса, научившись управлять своим безумием: вскарабкивался на самую подоблачную гряду сумасшествия, льдом жгущую ступни — замирал там, раскрывши объятия, словно прибитый к кресту (в этот миг его сосцы оказывались в стане недругов), — а Герберт уже чувствовал приближение бога! (Я осмелился поставить здесь восклицательный знак? Да! Ну и что?! Пшёл прочь со своим нескончаемоточием, арапчонок!) — и внезапно принимался отплясывать, перебирая русалочковыми ножками, танец, чьи таинственные пируэты молниеносно исторгались для него из планетных недр ловчим, присевшим тут же, на горном кряже и затмевавшим Герберта своей знаменитой улыбкой.
А потом скрывался Герберт вглубь государства честных, добрых, разумных да залечивал там, в предвосхищении следующего хищнического налёта, раны, затягивающиеся с нечеловеческой быстротой.
Три года выжимания из себя роковой незавершённости, впитанной в городе, куда некогда перебрался влюблённый Герберт, полный ганзейских грёз, родившихся на рейнских берегах, — туда, где цапли хрупкие ходили на тонких несгибаемых ногах, — и где, если встать осенью рядом с церковью Св. Маргариты, бьющейся в плющевом неводе, то видно, как вороньи стаи пророчествуют снежную бурю, — да промёрзли уже предрейнские отъезжие поля, и рассыпались по ним, сея лисью смерть, псари, подгоняя выжлецов на наречии, чей выговор так схож с языком Давидова Царства.
По капле выливалась из Герберта мука; плюхался на асфальт образ встающего на задние лапы пуделя–негритёнка, обращавшего к Герберту зеленоглазие величиной с Брагову башню; или, кривя влево отверстие, служившее ей ртом, герцогиня де Вийар выпрыгивала из рамы и принималась собирать по углам Гербертовой спальни урожай пандоровых даров. А поутру Герберт приходил в себя, и на толстенных клыках пивной бутылки алела, куда ярче базельского рассвета, круглая, точно ребячья слеза — капля его крови.
Герберт выдавил из себя отчаяние, бывшее пострашнее Критоновых мук, когда юнец, — по неопытности и от волнения не смогший перелить свой жар в Клеопатрово лоно, — взошёл на залитую утренней зарёй плаху оплачивать секировый кредит. Герберт же перехитрил плута–космоса: насытился безумием до отвала и отрыгнулся (Гербертов бог, умильно улыбнувшись пузырьку, уложил дитя в колыбель) да надсмеялся над чандаловидными александрийскими палачами, ускользнувши от них.
Сейчас Герберт вспоминал то ощущение лёгкости в чреслах и в чреслах души — когда, после первой качающейся над средиземноморской бездной ночи, его врачевательница, устроившись посреди перепаханного потугами его загоревшей выи ложа, расчёсывала лиловым гребнем свои золотые кудри. Ах! Герберт расправился со страданием, как иной раз очадрённый грёзовый конь–каннибал с кисеёй от мошек на морде, хлестнёт, бывало, хвостом по ночному терновнику, выбивши из него громкошуршащую судорогу, запах мяты, щемящую ностальгию по чеховской, сгинувшей и восставшей из праха полустаночной России, а главное — исполинскую совку, привлечённую запахом

Анатолий Ливри, философ, эллинист, поэт, прозаик, бывший преподаватель Сорбонны, ныне славист Университета Ниццы-SophiaAntipolis, автор «Набокова Ницшеанца» (русский вариант «Алетейя» Ст.-Петербург, 2005; французский « Hermann »,Paris, 2010) и «Физиологии Сверхчеловека» («Алетейя» 2011), лауреат литературной премии им. Марка Алданова 2010.
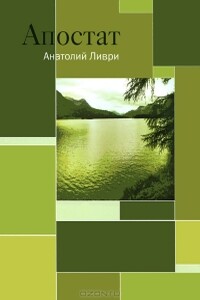
Анатолий Ливри, писатель, эллинист, философ, преподаватель университета Ниццы — Sophia Antipolis, автор восьми книг, опубликованных в России и в Париже. Его философские работы получили признание немецкой «Ассоциации Фридрих Ницше» и неоднократно публиковались Гумбольдским Университетом. В России Анатолий Ливри получил две международные премии: «Серебряная Литера» и «Эврика!» за монографию «Набоков ницшеанец» («Алетейя», Петербург, 2005), опубликованную по-французски в 2010 парижским издательством «Hermann», а сейчас готовящуюся к публикации на немецком языке.

По некоторым отзывам, текст обладает медитативным, «замедляющим» воздействием и может заменить йога-нидру. На работе читать с осторожностью!

Карой Пап (1897–1945?), единственный венгерский писателей еврейского происхождения, который приобрел известность между двумя мировыми войнами, посвятил основную часть своего творчества проблемам еврейства. Роман «Азарел», самая большая удача писателя, — это трагическая история еврейского ребенка, рассказанная от его имени. Младенцем отданный фанатически религиозному деду, он затем возвращается во внешне благополучную семью отца, местного раввина, где терзается недостатком любви, внимания, нежности и оказывается на грани тяжелого душевного заболевания…

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.