Ecce homo - [24]
Казалось, страшная тягость свалилась с души его, когда скрылся из вида Париж и дохнуло на него свежим воздухом полей; а поезд уже во весь опор летел к десятому — в алфавитном порядке — кантону страны, где мудрые крестьяне разделяют колючей проволкой чёрных быков и белых волооких коров.
В девять утра Александр очнулся ото сна, посмотрел в окно и рассмеялся — повсюду, на проносившихся в сторону Парижа гигантских валунах, лиственницах, соснах, крышах энгадинских изб и пятизвёздочных отелей, властвовала вызолоченная снежная пустыня.
В глубине шаткого коридора возник негр–официант, костяшкой указательного пальца простучал по стеклу мотив шубертовской увертюры и распахнул дверь, тут же ставши белокожим. Вертя шустрым задком, плотно обтянутым зелёными брюками, он предложил кофе, осведомился о происхождении Александра и, услышав ответ, воскликнул: «Madonna porca!», присовокупив, что ещё никогда не приходилось ему встречать финнов. Александр выбрал чай с шиповником и вскоре уже потягивал из искрящегося стакана бурый ароматный кипяток с багровой кровоточинкой на дне; любовался живописным буреломом, то тут, то там украшенным односезонными сталактитами. Потом Граверский до блеска выбрил ставшую вдруг эластичной кожу лица, хорошенько умылся, снова сменил бельё и, в окружении североамериканских мастодонтов и их жёнушек, пересел в махонький красный поезд, взбиравшийся по скалам уже профессионально, по–альпинистски мощно и легко.
Оказавшись в вагоне без перегородок, заокеанские горлодёры сбились в кучу, принялись, по своему обыкновению, вопить, хрюкать, скалить искусственные зубы, с подозрением коситься на одинокого Александра, щелкать фотоаппаратами, ковырять в ушах пальцами толщиной с сигару — неразлучную спутницу карибского Полифема, вхожего в лучшие дома левого берега Лютеции.
Но Граверский не смотрел на них. Положив рюкзак на сиденье напротив, а ноги на рюкзак, пятой ощущая твёрдый корешок тонкой книги, он не мог насытиться радужной чистотой и ждал (пытаясь справиться с анапестовым счастьем) как, вот сейчас, выйдет он на перрон, ступит на дремлющую под белой кожурой землю, и стёртые о пегий парижский панцирь каблуки захрустят по отвердевшему за ночь насту.
Поезд последний раз махнул хвостом, описал полукруг, величественно въехал в глубокое, ещё не освещенное солнцем ущелье, собрал последние силы и устремился к миниатюрному вокзалу, уютно свернувшемуся калачиком на берегу стянутого льдом озера, посередине которого красовался эллипс пустовавшего ипподрома.
Состав плавно затормозил. Солнце показалось из–за покрытой лесом вершины и озолотило город. Американцы зашумели ещё пуще, замычали, зафыркали, загромыхали чемоданами и, топая грязными мясистыми ногами, звеня купленными в Цюрихе сувенирными колокольчиками, прошествовали к выходу. Пора! Пора! Там ждут.
Александр выждал, пока они скроются, и последовал за ними, туда, где воздух был весь пронизан нитями серебряной паутины, увешанной дрожащими алмазами; солнце раздвоилось, и оба светила запрыгали, забесновались перед его глазами, пропали на мгновение, и вдруг Граверский увидел то, для чего он добирался сюда — исполинский дуб, клитор матушки–земли — весь в белых хлопьях, широченный у основания, мраморной колонной пропилеи возвышался он над хвойным морем. Александр сделал первый шаг по снегу, и — странное дело! — он оказался будто в краю обетованном, не в центре старого континента, а чуть восточнее, словно подбирался к сердцевине той Евразии, которую скраивал на свой лад с самого своего бандитского отрочества.
Сосало под ложечкой от предчувствия неслыханного дара — наверное, как у Диомеда, взнуздывающего фракийских скакунов, — и капала с его лезвия кровушка потерявшей девственность музы.
Под косматой елью показался двухэтажный дом; ель тотчас избавилась от снежной вериги, отсалютовала Граверскому, вскинувши руку к небесам. Дверь была полуоткрыта. Александр набрал полную грудь подслащённого энгадинского воздуха, толкнул эту дверь, и пол скрипнул так смачно, будто парижская подошва раздавила виноградную гроздь.
Комната ждала его. За окном синела горная вершина; синий цвет — цвет грёзы! Зеркало отражало снег с хвойным хвостом, точно ель пожертвовала своим членом и ускользнула по ту сторону ущелья. В углу — двухспальная кровать (для меня одного! Можно спать поперёк!) На книжных полках — побоище, и не ясно, кто победил, кто повержен. На столе — кипа белой бумаги, и бился, бился в стекло шмель — откуда он здесь?! Граверский уселся — стул тоже скрипнул, но не басом, как пол, а весело и дискантом, а потом ещё долго продолжал неистовать на разные лады.
Из перевёрнутого черепахового панциря на столе топорщилось перо. Пальцы Александра потянулись к нему, ухватили князе–бисмарковской щепотью (отчего суставы побелели, а из панциря плеснуло чернильное цунами), и наконечник пера, проткнувши бумагу, двинулся по ней, оставляя в своём кильватере бешеную, — вперёд и в стороны прыгающую — строку.
Париж, октябрь–ноябрь 2001
СХВАТКА
Негр дико замычал: «Мууууууу–ааа!». Его глаза бешеного яка осатанели, торс откинулся назад, в тот же миг он сиганул ко мне, подпрыгнул по–козлиному, тяжко, словно копытом, хватил меня голенью по бедру и легко, будто и не весил он шесть пудов, отлетел к чёрной границе татами. Он знал куда бьёт — прямо в исполинский, сросшийся с костью синяк. И я знал, что ему известно, где находится моё слабое место, и усмехнулся, как в те времена, когда за нечаянно оброненное слово или за барскую позу — руки в боки — сенсей вызывал на бой до нокаута, — а затем, когда отлежишься да вдоволь нахаркаешься кусками дёсен — до другого нокаута, а после (японский бог тоже троицу любит!), до третьего, — покуда не затрещат рёбра, да оба бедра не одеревенеют, а ты уже не прикрываешься и не пытаешься увернуться; и только кто–то посторонний, внутри тебя, помимо тебя весело отсчитывает удары да похохатывает, изумляясь: «Сколько ж ты ещё выстоишь, хлипкий поэтишка!», — а потому я лишь усмехнулся, показавши трибунам заместо зубов зелёную, забуревшую от запёкшейся крови пластинку, и мотнул головой.
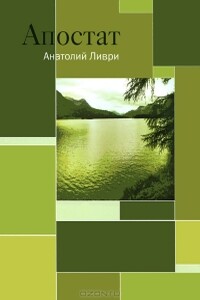
Анатолий Ливри, писатель, эллинист, философ, преподаватель университета Ниццы — Sophia Antipolis, автор восьми книг, опубликованных в России и в Париже. Его философские работы получили признание немецкой «Ассоциации Фридрих Ницше» и неоднократно публиковались Гумбольдским Университетом. В России Анатолий Ливри получил две международные премии: «Серебряная Литера» и «Эврика!» за монографию «Набоков ницшеанец» («Алетейя», Петербург, 2005), опубликованную по-французски в 2010 парижским издательством «Hermann», а сейчас готовящуюся к публикации на немецком языке.

Анатолий Ливри, философ, эллинист, поэт, прозаик, бывший преподаватель Сорбонны, ныне славист Университета Ниццы-SophiaAntipolis, автор «Набокова Ницшеанца» (русский вариант «Алетейя» Ст.-Петербург, 2005; французский « Hermann »,Paris, 2010) и «Физиологии Сверхчеловека» («Алетейя» 2011), лауреат литературной премии им. Марка Алданова 2010.

Повести и рассказы молодого петербургского писателя Антона Задорожного, вошедшие в эту книгу, раскрывают современное состояние готической прозы в авторском понимании этого жанра. Произведения написаны в период с 2011 по 2014 год на стыке психологического реализма, мистики и постмодерна и затрагивают социально заостренные темы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
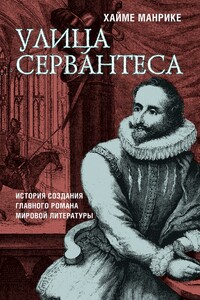
«Улица Сервантеса» – художественная реконструкция наполненной удивительными событиями жизни Мигеля де Сервантеса Сааведра, история создания великого романа о Рыцаре Печального Образа, а также разгадка тайны появления фальшивого «Дон Кихота»…Молодой Мигель серьезно ранит соперника во время карточной ссоры, бежит из Мадрида и скрывается от властей, странствуя с бродячей театральной труппой. Позже идет служить в армию и отличается в сражении с турками под Лепанто, получив ранение, навсегда лишившее движения его левую руку.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сборник стихотворений и малой прозы «Вдохновение» – ежемесячное издание, выходящее в 2017 году.«Вдохновение» объединяет прозаиков и поэтов со всей России и стран ближнего зарубежья. Любовная и философская лирика, фэнтези и автобиографические рассказы, поэмы и байки – таков примерный и далеко не полный список жанров, представленных на страницах этих книг.Во второй выпуск вошли произведения 19 авторов, каждый из которых оригинален и по-своему интересен, и всех их объединяет вдохновение.
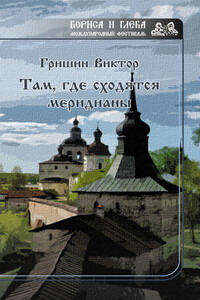
Какова роль Веры для человека и человечества? Какова роль Памяти? В Российском государстве всегда остро стоял этот вопрос. Не просто так люди выбирают пути добродетели и смирения – ведь что-то нужно положить на чашу весов, по которым будут судить весь род людской. Государство и сильные его всегда должны помнить, что мир держится на плечах обычных людей, и пока жива Память, пока живо Добро – не сломить нас.