Джаз - [6]
Вновь (как в случае с Картвели) все зависит от выбора вариации. Тот, кто всерьез ухватится за главного виновника торжества, японского премьер-министра Эйсаку Сато, заметит: весьма подробно освещены его детство, отрочество, юность; пристрастие к железным дорогам (в свое время занимал пост директора Бюро железных дорог Осаки); политические приключения (достойный венец их – премьерство); затейливые игры со Штатами, позволившие вновь пристегнуть к родине многострадальный остров Окинава; порицание последователей Хо Ши Мина; поощрение американских бомбардировок; искреннее сокрушение по поводу азартной атомной гонки; нобелевское лауреатство (как всемирное признание подобного сокрушения) и наконец, апофеоз: мирная кончина после внезапного мозгового кровоизлияния, произошедшего в ресторане во время обеда. Даже при самом незначительном интересе к политику так называемые исторические источники подадут блюда с ним на выбор в неизмеримом количестве.
Но вот помнят ли сайты или хотя бы двое-трое из тех старичков-профессоров, которые только что были упомянуты, беднягу студента? Я попытался вызволить несчастного из небытия, набрав в Интернете имя – высветилась масса личностей (к примеру: Исикава Хироаки, Ямадзаки Такуми, Сэкигава Хироаки и др.). Промелькнуло сообщение о первом чемпионе Японии по карате-до Ямадзаки Тэрутомо. После ознакомления с сайтами для меня, несомненного дилетанта, осталось загадкой, что считать у японцев именем (судя по приведенному списку, Хироаки в некоторых случаях фамилия, а в некоторых имя; так же дело обстоит и с Ямадзаки). Впрочем, не в этом суть.
Суть в том, что о самом Ямадзаки Хироаки я нигде больше не нашел ни слова (исключение, как уже упоминалось, составили заметки отечественных газет за 10 октября 67-го). Опять-таки, имея в достатке упрямство и время, я мог бы притянуть друзей и через два (максимум через три) «рукопожатия» выйти теперь уже на какого-нибудь авторитетного преподавателя Токийского университета и посетить Японию. В итоге несколько встреч в кампусе Хонго; несколько телефонных контактов – и оставалось бы решить лишь пресловутые технические вопросы: к примеру, найти шустрого переводчика из университетских русистов. «Язык, доводящий до Киева», довел бы и до существующих родственников Ямадзаки. Вполне возможно, они не ограничились бы мутными воспоминаниями, а извлекли бы на свет Божий фотографии, почетные грамоты, благодарственные письма от учителей или учебной администрации, в конце концов, любезно провели бы по улицам (там топотал ножками Хироаки, совсем еще малец!), показали бы школу и сами классы (вот на этих скамьях Ямадзаки проелозил большую часть своей жизни), а затем вместе с непонятно откуда свалившимся к ним на голову инопланетянином, собирающем об их дяде (брате, кузене, троюродном племяннике) после стольких лет всеобъемлющего забвения последнего непонятно для чего и непонятно зачем самые разнообразные сведения, и студентом-русистом, старающимся донести до соотечественников нюансы и обороты поистине марсианского языка, нанесли бы визит к любимому клену покойного («Посмотрите, как выросло дерево; поверьте, было оно совершенно крохотным!»). И клен трепетал бы оставшейся ржавчиной (в случае осеннего приезда марсианина) или растопыривал бы во все стороны озябшие прутья (мой приезд в январе), а из расположенной поблизости закусочной, любимой юным Хироаки, как и пятьдесят лет тому назад, когда малыш забегал туда со своим потрепанным ранцем, неубиваемо стлался бы запах горячей лапши.
Немногие испытывают любопытство к «незначительным людям», представляющим из себя росчерк, пунктир, точку в истории и лишь на секунду отметившимся в отчетах о происшествиях или в сводках «боев местного значения» («Рядовые Петров, Иванов, Сидоров ценою собственных жизней повернули вспять фашистские танки»; «Убит первокурсник Университета города Киото Хироаки Ямадзаки»; «Выпрыгнувший из горящего самолета агрессор Клементс попал в плен» и т. д.). Чиркнувшие даже не метеоритными осколками, а едва различимыми искрами Ивановы, Петровы, Клементсы затем теряются; бездна их неизбежно проглатывает. Тем не менее в исторической среде, наиболее равнодушной к песчинкам (среда традиционно привыкла оперировать миллионными массами как фоном для всяческого рода проходимцев), лично я знаю обладающего недюжинным состраданием доцента, всегда готового заострить внимание не на полководческой бездарности Александра I (Аустерлиц) и не на насморке Бонапарта (Бородино), а на нескольких гренадерах-преображенцах, «отставших третьего числа апреля от второго батальона» и навсегда сгинувших во времени и в пространстве, о которых упомянуто всего-то в двух-трех строках торопливого начальственного рапорта: «…кроме вышеописанного докладываю Вашему сиятельству: нижние чины (перечисление Ивановых-Сидоровых) вычеркнуты как пропавшие безвестно». Добрый мой малый, совершенно равнодушный к Цезарю, Черчиллю, Сталину и целому легиону других политических знаменитостей, силится разгадывать судьбы стыдливо, бочком проскочивших в рапортах, упоминаниях и указах рядовых, капитанов, майоров, а также сельских и городских обывателей, и рад, словно ребенок, каждому удачному выцарапыванию из безвестности очередного плотника или матроса. Свидетельствую: чудом уцепив в раскопанных им бумагах (архив апокалиптичного 1812 года) упоминание о скромном, словно мышь, смоленском попе – священник попался на глаза самому Наполеону и даже ввязался в некий теологический спор со всемирно признанным Антихристом, – доцент не поленился на несколько месяцев перебраться в Смоленск (сведения о жизни героя отыскались именно там), вынюхал дальнейшую судьбу едва не погубленного нашествием страдальца, извлек на свет Божий сведения о поповичах и, не считаясь ни с собственным временем, ни с собственными деньгами, лишь из чистого научного сострадания к очередному «маленькому человеку» посадил на ветвистое генеалогическое древо целую россыпь его потомков, увенчав крону дюжиной ныне здравствующих праправнуков, как и полагается, раскиданных от Сиэтла до Мельбурна. Он даже схватился за очерк о них, к сожалению, так никого и не заинтересовавший. Узнав о моем замысле и горячо поддержав идею, следопыт затем со всей своей горячностью, испортившей ему отношения с множеством коллег, просил (впрочем, какое там, приказал) при любой возможности «выковыривать» из забвения «потерянные имена» – что я и пообещал сделать.
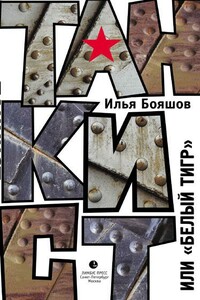
Вторая мировая война. Потери в танковых дивизиях с обеих сторон исчисляются десятками подбитых машин и сотнями погибших солдат. Однако у «Белого тигра», немецкого танка, порожденного самим Адом, и Ваньки Смерти, чудом выжившего русского танкиста с уникальным даром, своя битва. Свое сражение. Свой поединок.Данная повесть послужила основой для сценария фильма Карена Шахназарова «Белый тигр» (2012 г.).
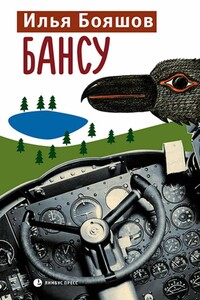
В основе новой повести лауреата премии «Национальный бестселлер» Ильи Бояшова лежит реальная история, произошедшая летом 1943 года на Аляске. Советский экипаж перегоняет по ленд-лизу из Америки в СССР двухмоторный бомбардировщик «Дуглас А-20 Бостон». Приземлившись для дозаправки на авиабазе в Номе, небольшом городишке на побережье Аляски, пилот обнаруживает, что колпак турели, где находился штурман, открыт, а сама турель пуста. На поиски пропавшего штурмана, в парашютной сумке которого был тайник с ценными разведданными, отправляются две поисковые группы — советская и американская…
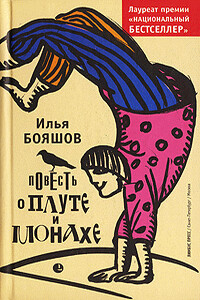
Несмотря на свою былинность и сказочность, роман Ильи Бояшова совершенно лишен финальной морали. Монах и плут пребывают в непрерывном странствии: один стремится попасть в Святую Русь, другой – в страну Веселию. Но оба пути никуда не ведут. Алексей-монах, избранник Божий, не находит святости в монастырях и храмах, Алексей-плут, великий скоморох, не находит признания своему веселому дару. И утешающий и увеселяющий равно изгоняются отовсюду. Так уж повелось, что если не выпадет тебе вдоволь страданий, то и не сложат о тебе никакой былины, а рассчитывать на что-то большее, осязаемое и вовсе смешно – нечего тогда было рождаться с умом и талантом в России…
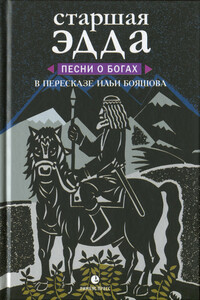
Перед вами первое и пока единственное прозаическое переложение знаменитого скандинавского эпоса «Старшая Эдда», сделанное известным писателем Ильей Бояшовым. Теперь этот литературный памятник, еще недавно представлявший интерес исключительно для специалистов, вышел за рамки академического круга и стал доступен самой широкой аудитории. «Старшая Эдда» стоит в одном ряду с такими эпосами как «Илиада» и «Махабхарата». Несмотря на то, что «Эдда» дошла до нашего времени в виде разрозненных частей, ее «Песни о богах» и «Песни о героях» сыграли колоссальную роль в развитии западноевропейской литературы.
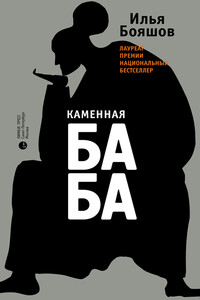
У России женский характер и женское лицо – об этом немало сказано геополитиками и этнопсихологами. Но лицо это имеет много выражений. В своем новом романе Илья Бояшов рассказывает историю русской бабы, которая из ничтожества и грязи вознеслась на вершину Олимпа. Тот, кто решит, что перед ним очередная сказка о Золушке, жестоко ошибется, – Бояшов предъявил нам архетипический образ русской женственности во всем ее блеске, лихости и неприглядности, образ, сквозь который проступают всем нам до боли знакомые черты героинь вчерашнего, сегодняшнего и, думается, грядущего дня.Прочитав «Каменную бабу», невольно по-новому посмотришь на улыбающихся с экрана примадонн.
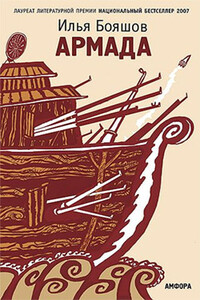
Некое государство снарядило свой флот к берегам Америки с целью ее полного уничтожения. Но, когда корабли уже были в походе, произошла всемирная катастрофа – материки исчезли. Планета превратилась в сплошной Мировой океан. Моряки остались одни на всем белом свете. И что теперь делать бравым воякам?
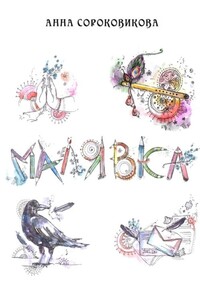
Сомнения оставляют нас в прошлом. Сейчас, очень видны результаты прошлых сомнений и отказа от Божественной реальности. Поэтому, поблагодарив прошлое, без сомнений надо вернуть в свою жизнь Бога. Книга публикуется в авторской орфографии и пунктуации Обложка тоже авторская.
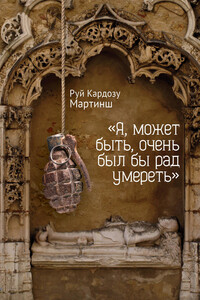
В основе первого романа лежит неожиданный вопрос: что же это за мир, где могильщик кончает с собой? Читатель следует за молодым рассказчиком, который хранит страшную тайну португальских колониальных войн в Африке. Молодой человек живет в португальской глубинке, такой же как везде, но теперь он может общаться с остальным миром через интернет. И он отправляется в очень личное, жестокое и комическое путешествие по невероятной с точки зрения статистики и психологии загадке Европы: уровню самоубийств в крупнейшем южном регионе Португалии, Алентежу.
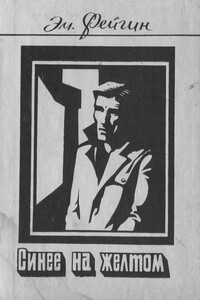
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
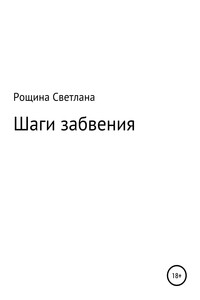
После смерти мужа Олеся узнаёт, что он был не тем человеком, которого она знала. Желая очистить свою память от воспоминаний о неудачной семейной жизни, она отправляется в далёкую северную деревню к шаманке, которая умеет готовить чудодейственное зелье. Но чтобы зелье подействовало, Олесе необходимо по новой пережить каждый эпизод своего прошлого, который она хочет забыть. Превозмогая душевную боль, Олеся погружается в воспоминания, проходя шаг за шагом историю своих отношений с мужем. Много ли тайн хранит их семейная жизнь? Удастся ли Олесе избавиться от груза прошлого, или же она обречена до конца дней жить под гнётом своей вины?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В этот том избранных произведений известного туркменского писателя Агагельды Алланазарова вошли почти все прозаические произведения, переведенные на русский язык. Большинство из них переводились и на другие языки мира. По его произведениям сняты полнометражные художественные фильмы «Прощай, мой парфянин», «Дестан». Том получил название по одноименной повести, вошедшей в него. Все произведения отличаются яркостью, самобытностью, увлекательным сюжетом.