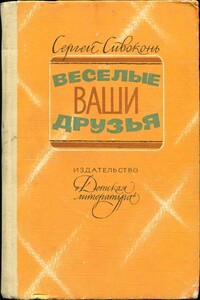Движение литературы. Том II - [30]
Поэт меж ближайшим и вечным
1
Под знаком согласия
Затяжной дебют Александра Кушнера и впрямь сопровождала тень непризнания и полупризнания. Когда-то поэт отправился в дорогу, доверчиво сообразуя свой шаг лишь с объективной, обобщенной мерой российской стиховой речи и не загадывая, что за ближайшим поворотом.
Тогда впору было принять беспечную радость путника, все снаряжение которого – образцовая воспитанность глаза и уха да счастливый прирожденный навык сразу усваивать любое впечатление ритмически и рифмически, минуя нестиховое внутреннее слово, – впору было принять эту радость попадания в такт – за поверхностную невозмутимость. Дескать, все досталось поэту из вторых рук – понаслышке и по чужой прорисовке: и звучный «стопный» стих, ограненный полуторавековой работой избранников муз, которые сначала отлили его форму, а потом расковали его звучание и словарь, открыв двери для щебета шипящих и для непредвиденности прозаизмов; и виртуозная скользящая подвижность интонации: вверх, вниз, по едва заметным пригоркам перечислений, вправо, влево – вслед за тонко прочерченными изгибами фетовской и пастернаковской «строки короткой», без перенапряжения, преткновения, без ритмических сломов и задыхающихся переносов; и вся культурная панорама города на Неве с его окрестностями, столько раз воспетая, что как будто одного окликания по имени достаточно, чтобы пробудить дух поэзии, – гуляй себе по возделанному, безопасному заповеднику красоты, благодушествуй.
Между тем «классическое» равновесие стиля и впечатлений с самого начала было воспринято поэтом как явление сверхличное, внеличное и потому неподражательное, как «склад, что в жизни есть», широкий поток, заимствующий свою красоту от облаков и деревьев. Влиться в неиссякающее течение, продолжить его и продолжиться в нем («К этим сотням и тысячам круглым твоим / приплюсуем десятки», – как скажет позднее поэт) – в этом, собственно, и заключалось первое своеобразие Александра Кушнера.
Впоследствии изменятся топография и разлет жизненного пространства, и очертания стиха, все более уходящего от летучей краткости; чувства осложнятся противочувствиями. Но все это останется внутри «классически»-общезначимого строя, того стиля литературной культуры, в пределах которого любая тема неуклонно мыслится как вечная, любая сиюминутность – как соотнесенная с историческими прецедентами, любой привидевшийся сон – как навязчивый миф, что грезится многим человеческим поколениям.
На таком устойчивом фоне у поэта обостряется чувство органических сдвигов, чуткость даже к малым перестановкам, подстроенным течением времени («Повторяется все: устремленья, и сны, / И рычанье чудовищ. / А по-моему, лишь элемент новизны / Интересен и стоящ!»). Но для читателя знаки накопленного традицией постоянства существенней, виднее, чем «элемент новизны». Сам же Кушнер не дает в руки собеседнику и адресату стихов никакой подсказки относительно своей лирической «миссии» или «роли», не отчуждает от себя идеализированного, легендарного, так сказать, «двойника», способного завладеть воображением читателей.
Но здесь, как мне кажется, и разгадка «места» Кушнера, не окончательная («Ты, как марка, еще не погашен, / Не дописано даже письмо»), но ориентирующая. Он воскресил для нашей поэзии «частного человека», столкнув его конечную участь с необозримым культурно-историческим, географическим и космическим пространством и побудив читателя не к приподнимающему отождествлению с «Поэтом», а к сомышлению и соседству с равным по уделу собеседником, к своего рода «обмену опытом».
Отсюда[4] напряжение между «классичностью» общих контуров стиха Кушнера и будничной сниженностью его словесной интонации: она берет в легчайшие кавычки любое высокое литературное слово и не дает заложенным в строе «вечного» стиха ораторской патетике и мелодическому распеву прорваться сквозь сетку житейских «вот», «как будто», «что ли», «если честно разобраться», сквозь обиходные и профессиональные «мелочи», точно указывающие на место, время и даже на «социальное положение» автора. И вообще Кушнер охотно сообщает о своих поэтических занятиях как о частном деле в условиях прозаического быта у лампы за «тесным столом», посреди дальних командировок, сборов на дачу, вперемешку с переводами («… подстрочник выглядит, как ребус… но как нам дух перевести?») – и все это для него всегдашняя правдивая «изнанка» столь же правдивого в своей общезначимости классического культурного «мифа», тем более загадочная, что, как в ленте Мёбиуса, «нет между ними черты» («Пряжка, Карповка, Смоленка, Стикс, Коцит и Ахеронт»).
Отсюда же проблематичное противостояние громадных вопросов о жизни, смерти, одиночестве и общении, свободе и любви, движении истории, судьбах отечества – вопросов, для постановки которых созван поистине «великий совет», потревожены тени Пушкина, Достоевского, Тютчева, Боратынского, Толстого, – и сугубо личных, живо-мучительных применительно к себе, к частному своему случаю попыток ответить на эти вопросы без итоговой звонкости и завершающего аккорда. В одном из стихотворений Лев Толстой с его «арзамасским ужасом» посмертного исчезновения оказывается просто «проезжим» (хотя и «покрепче нас») постояльцем провинциальных номеров, которому, как и «нам» (мне, «командировочному» поэту, и тебе, читателю), случалось «очнуться на клейменой простыне гостиничной, со швом посередине». С тем же ограниченным успехом – для разгадки собственной жизненной задачи – можно примериться к приятелям, соседям, к трудностям
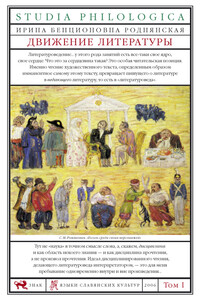
В двухтомнике представлен литературно-критический анализ движения отечественной поэзии и прозы последних четырех десятилетий в постоянном сопоставлении и соотнесении с тенденциями и с классическими именами XIX – первой половины XX в., в числе которых для автора оказались определяющими или особо значимыми Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Вл. Соловьев, Случевский, Блок, Платонов и Заболоцкий, – мысли о тех или иных гранях их творчества вылились в самостоятельные изыскания.Среди литераторов-современников в кругозоре автора центральное положение занимают прозаики Андрей Битов и Владимир Макании, поэты Александр Кушнер и Олег Чухонцев.В посвященных современности главах обобщающего характера немало места уделено жесткой литературной полемике.Последние два раздела второго тома отражают устойчивый интерес автора к воплощению социально-идеологических тем в специфических литературных жанрах (раздел «Идеологический роман»), а также к современному состоянию филологической науки и стиховедения (раздел «Филология и филологи»).

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том VIII охватывает развитие мировой литературы от 1890-х и до 1917 г., т. е. в эпоху становления империализма и в канун пролетарской революции.
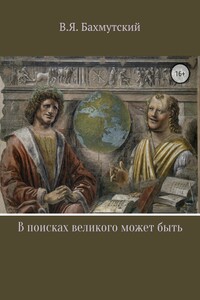
«В поисках великого может быть» – своего рода подробный конспект лекций по истории зарубежной литературы известного филолога, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора ВГИК Владимира Яковлевича Бахмутского (1919-2004). Устное слово определило структуру книги, порой фрагментарность, саму стилистику, далёкую от академичности. Книга охватывает развитие европейской литературы с XII до середины XX века и будет интересна как для студентов гуманитарных факультетов, старшеклассников, готовящихся к поступлению в вузы, так и для широкой аудитории читателей, стремящихся к серьёзному чтению и расширению культурного горизонта.

Расшифровка радиопрограмм известного французского писателя-путешественника Сильвена Тессона (род. 1972), в которых он увлекательно рассуждает об «Илиаде» и «Одиссее», предлагая освежить в памяти школьную программу или же заново взглянуть на произведения древнегреческого мыслителя. «Вспомните то время, когда мы вынуждены были читать эти скучнейшие эпосы. Мы были школьниками – Гомер был в программе. Мы хотели играть на улице. Мы ужасно скучали и смотрели через окно на небо, в котором божественная колесница так ни разу и не показалась.

Книга посвящена изучению творчества Н. В. Гоголя. Особое внимание в ней уделяется проблеме авторских психотелесных интервенций, которые наряду с культурно-социальными факторами образуют эстетическое целое гоголевского текста. Иными словами, в книге делается попытка увидеть в организации гоголевского сюжета, в разного рода символических и метафорических подробностях целокупное присутствие автора. Авторская персональная онтология, трансформирующаяся в эстетику создаваемого текста – вот главный предмет данного исследования.Книга адресована философам, литературоведам, искусствоведам, всем, кто интересуется вопросами психологии творчества и теоретической поэтики.

Первостепенным компонентом культуры каждого народа является языковая культура, в которую входят использование языка в тех или иных сферах жизни теми или иными людьми, особенности воззрений на язык, языковые картины мира и др. В книге рассмотрены различные аспекты языковой культуры Японии последних десятилетий. Дается также критический анализ японских работ по соответствующей тематике. Особо рассмотрены, в частности, проблемы роли английского языка в Японии и заимствований из этого языка, форм вежливости, особенностей женской речи в Японии, иероглифов и других видов японской письменности.

В книге рассмотрен ряд текстов Пушкина и Тютчева, взятых вне сравнительно-сопоставительного анализа, с расчетом на их взаимоосвещение. Внимание обращено не только на поэтику, но и на сущностные категории, и в этом случае жанровая принадлежность оказывается приглушенной. Имманентный подход, объединяющий исследование, не мешает самодостаточному прочтению каждой из его частей.Книга адресована специалистам в области теории и истории русской литературы, преподавателям и студентам-гуманитариям, а также всем интересующимся классической русской поэзией.
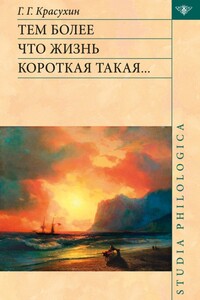
Это наиболее полные биографические заметки автора, в которых он подводит итог собственной жизни. Почти полвека он работал в печати, в том числе много лет в знаменитой «Литературной газете» конца 1960-х – начала 1990-х годов. Четверть века преподавал, в частности в Литературном институте. Нередко совмещал то и другое: журналистику с преподаванием. На страницах книги вы встретитесь с известными литераторами, почувствуете дух времени, которое видоизменялось в зависимости от типа государства, утверждавшегося в нашей стране.