Двадцать четыре месяца - [20]
– Как в пионерском лагере, – сказала, отдышавшись от смеха, Лиза.
– Ты что, была в пионерском лагере?
– Я думала, ты спросишь: “У тебя что, было в пионерском лагере?” Ладно, я решила: остаюсь я тут у тебя, то есть – у себя остаюсь тут, тут остаюсь…
– Ну, мне это, конечно, экономически выгодно, а что скажут твои родители?
– А им это тоже будет экономически выгодно: я снимусь с финансового учета у них и перейду на твое иждивение.
– Э, нет, тогда мне невыгодно, – гундосил он, водя пальцем вокруг ее пупка. Потом вспомнил о серьезном:
– Слушай, о родителях: ты позвони хотя бы. Первый час.
– Они в отпуске. Проводят у моря последние две недели перед учебным годом.
– Твоим, что ли?
– Своим. Они преподаватели. Слушай, что бы такое накинуть – в туалет прошмыгнуть?
Лиза нашла в шкафу халат своей бабушки, запахнулась, взмахнула перед ним рукавами:
– Настоящий шелковый, между прочим. Нет, соседи, конечно, нам тут помешают… Отравить бы их… Ты почему их до сих пор не отравил?
– Осторожные. Из рук не едят.
– Приучил бы хоть к рукам. Всему тебя учить надо, всему учить…
***
Под общей анестезией хохота, дурацких разговоров и проигрывания сцен под общим названием “Как мы боимся соседей, ах как мы их боимся!” происходили сложные какие-то изменения, после которых их расставание стало бы тоже сложной операцией, но настолько кровавой, что применять анестезию было бы уже бессмысленно. От того вечернего момента, когда он, засыпая, обнимал свернувшуюся на боку спиной к нему Лизу, у него на весь следующий день оставалось чувство, которое он про себя называл “как яблочная косточка”. То есть – чувство, которое возникает при попытке удержать в руке что-то настолько мелкое, что, удерживая, вы даже не можете его до конца ощутить, что-то при этом из пальцев легко выскальзывающее и с сухим стуком падающее на пол. Лиза была не только худой и мелкой девушкой, множеством своих ребер, лопаток и локтей утыкавшейся ему в грудь во время таких объятий, она была еще легко выскальзывающей девушкой, девушкой хотя и нуждавшейся в чьих-то постоянных объятиях, но никогда не уверенной в том, что сейчас ее обнимают именно те руки, о которых она всегда мечтала. Любовь к Лизе наполняла его необученную для этого должным образом голову самым средневековым и острым богословием. Все время всплывала книжная фраза о том, что “само тело в силу одних только законов своей природы способно ко многому, от чего приходит в изумление его душа”. Он не был уверен в том, что это душа заставляет жить и двигаться это неоспоримо смертное тело. Похоже было все-таки, что кровеносная система Лизы, ее тонкий, устойчивый скелет, сердце, желудок, печень и кишечник справляются самостоятельно, без помощи души. У него с ней не было ничего общего, того общего, что объединяет людей понятными им обоим разговорами, они редко понимали друг друга. Он любил в Лизе все, что в ней было смертного: ее небольшое тело, голос, ее присутствие, как собственное бессмертие. Непостижимым было, как она управляется со своими руками-ногами-подбородком, ухитряясь двигаться так гармонично, как она не помнит о всех этих частях, а выглядит так, как будто помнит. Он вспоминал свой тополь, двигающийся под ветром мельчайшими ветками и листьями в непостижимом по сложности ритме и тоже не помнящий о своих частях и формах, и между тем – помнящий. Почему-то такая любовь как-то книжно увязывалась у него с христианской экзальтацией ранней Европы, не почему-то, а из-за города, который был специально для напоминания о превосходящих постройках тех земель построен. Маленькой, беленькой, плывущей на волнах Европой видел он Лизу, но знал, что сам не дотягивает до быка.
Соседи не отреагировали на вселение Лизы, отмолчались. Приехали Лизины родители, нужно было идти знакомиться. Лиза схитрила и, поймав между лекций сначала папу, потом – маму, познакомила с ними Сашу, во-первых, с каждым отдельно, а во-вторых – неожиданно, в неторжественной обстановке, и когда они с Лизой стали бывать у ее родителей, торжественное знакомство было опущено, оставалось только обычное человеческое общение, вполне нормальное.
Все более ненормальным становилось Сашино к Лизе отношение. С каждым новым понижением осенней температуры любовь к Лизе становилась острее, и это надо было скрывать от нее, Лизе такая любовь не подходила, она с ней категорически не монтировалась. Лиза была нормальной студенткой, не задумывающейся о многом, была человечнее Саши во много раз. Дело было не в Лизе, а в том, что оздоровление его отношений с местным климатом оказалось сезонным, и с наступлением осени у него становилось все тяжелее и тяжелее на душе, и в Лизе он начинал видеть единственное утешение. Это никуда не годилось. Избавиться от этой сезонной депрессии не получалось, все усилия тратились на то, чтобы Лиза не заметила. Они сменили, наконец, диван, сменили шторы на окнах, Саша предусмотрительно вызвал слесаря продуть батарею и вовремя заклеил на зиму оконные рамы. Они по-семейному приготовились зимовать.
Когда растворились, куда-то подевались из-под ног расквашенные коричневые листья, цвет неба обещал не сегодня завтра снег и Саша стал надеяться на облегчение, дело все же шло к Новому году, он заметил, что Лиза подхватила его идиотский вирус, сезонное уныние. И выглядела неважно: расширились поры на коже лица, все лицо припухло, как от долгого плача. Но Лиза, в отличие от него, ничего скрывать не собиралась, примерно через пару дней после того, как он все это заметил, она очень бодрым голосом сказала ему, что беременна и что на послезавтра записана на аборт. У него как рукой сняло всю к ней жалость, он не помнил, что она младше, и все, что ему нужно было бы помнить сейчас, лицо отвердело, и он сказал спокойно:

Июнь 1957 года. В одном из штатов американского Юга молодой чернокожий фермер Такер Калибан неожиданно для всех убивает свою лошадь, посыпает солью свои поля, сжигает дом и с женой и детьми устремляется на север страны. Его поступок становится причиной массового исхода всего чернокожего населения штата. Внезапно из-за одного человека рушится целый миропорядок.«Другой барабанщик», впервые изданный в 1962 году, спустя несколько десятилетий после публикации возвышается, как уникальный триумф сатиры и духа борьбы.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.
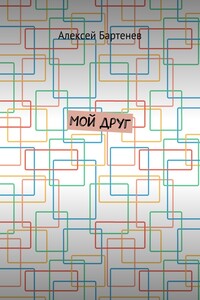
Детство — самое удивительное и яркое время. Время бесстрашных поступков. Время веселых друзей и увлекательных игр. У каждого это время свое, но у всех оно одинаково прекрасно.

Это седьмой номер журнала. Он содержит много новых произведений автора. Журнал «Испытание рассказом», где испытанию подвергаются и автор и читатель.