Дурная кровь - [64]
Там Томча проверил слуг и испольщиков и, обнаружив, сколько они наворовали, всех переколотил. А они словно были и рады: новый хозяин не слабее старого, а должно, еще и посильнее.
И как запил с того дня Томча, так его трезвым больше и не видели. С помощью слуг и поденщиков он приволакивал цыганок и крестьянок; насильничал над ними и черт знает что делал. Мать напрасно наказывала ему, чтобы он немедленно возвращался, не то и она уйдет из дому. Его ответ был постоянен: честь и уважение матери; пусть ест и пьет, чего душа пожелает, ничего пусть не жалеет, не бережет, но, если еще чего от него хочет, пусть идет куда знает.
Софкин отец, эфенди Мита, чтобы поддержать свою честь, а Томче задать страху, послал к нему старшего шафера с требованием, чтобы зять вернулся домой и не срамил его, или же он возьмет дочь назад. Томча встретил шафера как нельзя лучше, но тестю, эфенди Мите, послал кукиш, присовокупив к нему такую непристойность, что сразу стало ясно, что он совсем откололся от жены и тестя, совсем опустился. Она означала также, что он окончательно вернулся к тем временам, когда ребенком жил с отцом на постоялых дворах в компании цыган и пьяниц. Эфенди Мита, больше всего разозлясь оттого, что зять не выругал его в глаза, а посмел передать ругань через посланного, да еще с кукишем, послал за Софкой. Но Софка отказалась вернуться. И не только отказалась, но просила передать отцу, чтобы он никогда ее больше не тревожил, оставил ее в покое, что ей здесь «хорошо, очень хорошо…».
XXXII
Но на этом дело не кончилось. Когда Томча увидел, что его больше не трогают и тем более не решаются приказывать или угрожать и что, следовательно, он уже не ребенок, а взрослый, независимый человек, он снова стал появляться дома. Но как! Всегда ночью, всегда пьяный, он всегда почти вышибал ворота, Арса никогда не успевал отворить их. Сойдя с коня, он входил в комнату; где стоя поджидала его жена, и тут же обрушивал на ее голову удар, после которого у него в руке всегда оставались ее платок и клок волос. Но Софка, словно назло, ни звука. Она стаскивала с него сапоги, и стоило ей на мгновение замешкаться или смешаться, муж, не глядя, пинал ее сапогом со шпорами в грудь, живот. Пинал с такой силой, что Софка отлетала к стене. Но снова подходила и продолжала его разувать. Слуги обычно разбегались и прятались у соседей, так как знали, что он всех перестреляет, лишь только заметит в доме. Потом он сам отправлялся в погреб за вином, но чаще за ракией. С налитыми кровью глазами, вне себя от ярости оттого, что она ничему не удивляется и не пугается и чуть ли не с наслаждением переносит все мучения, как бы желая, чтоб они никогда не кончились, он силой заставлял ее пить вместе с собой. Пить много, и одну ракию, крепкую, дважды перегнанную ракию, от которой она сваливалась в беспамятстве. Тогда он терзал и целовал ее так, что только у Софки хватало сил это вытерпеть. И она терпела. Он мог бить ее, кусать — она не шевелилась и не издавала ни единого звука! Только пила и пила ракию, чувствуя, как она сжигает нутро и погружает ее в безумие боли и наслаждения.
На другой день, на самой заре, Томча, чуть протрезвившись, поднимался и снова уезжал на границу или в село.
А Софка, избитая, изломанная, с трудом вставала и выходила к свекрови. Та, напуганная и подавленная ночными ужасами, не в силах была подняться с постели. Увидев, что у Софки повязана голова и лицо в кровоподтеках, свекровь, плача навзрыд, говорила ей:
— Софка, детка! Уходи от него. Брось его, Софка! Уходи, уходи от него!
— Ничего, мамаша. Ничего. Это я сама упала и расшиблась, — отвечала Софка, пытаясь скрыть от свекрови происшедшее.
— Ох, какое там сама! Все слышала, доченька. Уходи, уходи от него, спасайся. Не то убьет он тебя. А я не могу тебя защитить. Беги, беги от него, деточка!
Но так как Софка наотрез отказывалась уйти от Томчи и бросить дом, уходила свекровь. Не в силах от стыда и срама смотреть Софке в глаза, точно она во всем виновата, убитая горем старуха на несколько дней исчезала из дому. Уходила она всегда вроде бы на кладбище, а на обратном пути, чего раньше никогда не случалось, встречала какую-нибудь знакомую крестьянку, и та будто бы насильно оставляла ее у себя на ночь и весь следующий день. Свекровь жалела Софку больше себя. Напрасно Софка оставляла ей еду и в обед и в ужин, чтобы она поела, когда вернется, — она ни к чему не притрагивалась. Даже к постели не притрагивалась и, уж конечно, спала не в ней, а где-нибудь в уголку. И все для того, чтобы не пачкать и не мять постель, чтобы Софке не надо было снова оправлять ее и чтобы, таким образом, избавить невестку от лишнего беспокойства и хлопот, которых у нее и без того много. Не ложась в постель и не разбирая ее, старуха думала сберечь Софкины силы.
Напрасно Софка упрекала свекровь и по утрам выговаривала ей, что она опять не спала в постели; та неизменно отвечала: потому-де не легла в постель, что спать расхотелось. Однако по смятой антерии и платку, приставшему к шее, вискам и затылку, видно было, что свекровь спала одетой возле постели, в углу на подушке, на которой наутро оставались следы от локтей и головы.

Книга «Шесть повестей…» вышла в берлинском издательстве «Геликон» в оформлении и с иллюстрациями работы знаменитого Эль Лисицкого, вместе с которым Эренбург тогда выпускал журнал «Вещь». Все «повести» связаны сквозной темой — это русская революция. Отношение критики к этой книге диктовалось их отношением к революции — кошмар, бессмыслица, бред или совсем наоборот — нечто серьезное, всемирное. Любопытно, что критики не придали значения эпиграфу к книге: он был напечатан по-латыни, без перевода. Это строка Овидия из книги «Tristia» («Скорбные элегии»); в переводе она значит: «Для наказания мне этот назначен край».

Роман «Призовая лошадь» известного чилийского писателя Фернандо Алегрии (род. в 1918 г.) рассказывает о злоключениях молодого чилийца, вынужденного покинуть родину и отправиться в Соединенные Штаты в поисках заработка. Яркое и красочное отражение получили в романе быт и нравы Сан-Франциско.
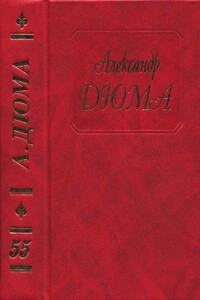
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
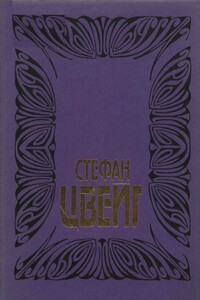
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881 — 1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В девятый том Собрания сочинений вошли произведения, посвященные великим гуманистам XVI века, «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», «Совесть против насилия» и «Монтень», своеобразный гимн человеческому деянию — «Магеллан», а также повесть об одной исторической ошибке — «Америго».

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».

Во 2 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли повести «Низины», «Дзюрдзи», «Хам».
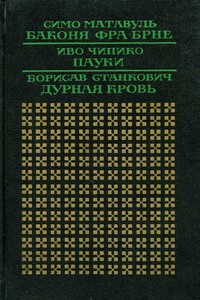
Симо Матавуль (1852—1908), Иво Чипико (1869—1923), Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейшие представители критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В книгу вошли романы С. Матавуля «Баконя фра Брне», И. Чипико «Пауки» и Б. Станковича «Дурная кровь». Воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, авторы осуждают нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.
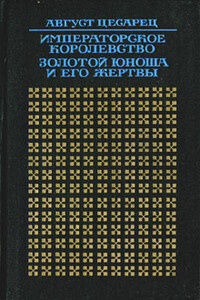
Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.

Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.

Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.