Дурная кровь - [16]
— Ба… ба… ба!..
Другая на ее месте, несомненно, растерялась бы, сдалась, но Софка оттолкнула его с чувством омерзения и, оправляя одежду, вышла.
V
Было это незадолго до пасхи. Перед большими праздниками Софка все время проводила наверху, где прибирала и украшала комнаты, от кухни ее в таких случаях освобождали. Так было и на этот раз. Чтобы не запылиться, она надела старый минтан, который был ей узок и теснил грудь, и покрыла голову большим желтым платком, оттенявшим свежесть ее лица. Она проветривала и обметала комнаты. Деревянные сандалии ее гулко стучали по сухому полу веранды верхнего этажа.
Двор перед кухней был давно выметен и полит. От ворот к дому белела мощеная дорожка. Из деревянного ведра на колодце сочилась вода, и капли, падая на плиты, переливались на солнце. Трава около колодца, во дворе и даже на дорожке ярко зеленела. Зеленел и тянувшийся за домом сад, отгороженный дощатым забором. Под стрехами чирикали воробьи. Из соседних дворов тоже доносились разнообразные звуки приготовлений к празднику: выбивали ковры, рядна, скоблили медные противни и тазы. Слышался топот ног на улице. День стоял ясный, теплый, напоенный животворной и целительной свежестью, как бывает весной на пасху. На нижних ступеньках лестницы, у самой кухни, сидела мать; на плечи она накинула короткую колию, словно ей было холодно, на самом же деле, чтобы защитить от пыли, падавшей сверху, где работала Софка, ворот и грудь своей чистой белой рубашки. Прикрывшись колией, она держала на коленях медный противень и шелушила пшеницу, одновременно следя, чтобы на кухне не выкипели горшки, булькавшие на огне. Пшеницу она шелушила старательно, вечером ее надо было нести на кладбище, на помин души.
На воротах стукнуло дверное кольцо.
— Эй, хозяева!
Даже Софка на верхнем этаже услышала резкий голос с нездешним акцентом.
— Софка, стучат! — крикнула снизу мать.
Софка оставила работу и направилась вниз.
— Маменька, отворила бы сама, — медлила она, спускаясь по лестнице.
— Иди, иди, кто-то пришел! — торопила мать.
Пока Софка шла по дорожке мимо колодца к воротам, мать быстро спрятала противень с пшеницей и, хотя все было чисто, еще раз поспешно прошлась метлой перед кухней и убрала тряпку и еще что-то под лестницу.
Отворив ворота, Софка остановилась, ожидая, чтобы стучавший вошел.
В воротах появился высокий, с бритой головой албанец. Софка улыбнулась, так как сразу поняла, что это посланный отца, один из тех барышников, что каждую субботу, в базарный день, приезжают из Турции покупать здесь лошадей. Как только мать, узнав в пришельце албанца из Турции, подумала, что это, по всей вероятности, посланец отца, которого она всегда перед большими праздниками с нетерпением поджидала, и уверилась, что это так и есть, она испуганно засуетилась перед кухней, оглядывая, все ли чисто и прибрано.
— Это дом эфенди Миты? — громко крикнул албанец и, словно сомневаясь, опять поглядел на ворота — туда ли он попал.
Софка утвердительно кивнула головой. Он вошел и широким шагом направился к матери, засунув руки в белые штаны. Еще не дойдя до нее, он заговорил:
— Кланяется вам эфенди Мита и приказал мне сказать вам…
— Добро пожаловать, добро пожаловать! — ласково перебила его мать и быстро вынесла ему низкий трехногий табурет. — Садись, отдохни! — сказала она, усердно приглашая его сесть.
Албанец с опаской опустился на табурет. Мать, как всегда перед посланными отца, стояла, скрестив руки на животе и слегка склонив голову, жадно и почтительно выслушивая наказы и распоряжения мужа. Софка пошла на кухню варить албанцу кофе. Албанец, нахмурившись так, что отчетливо выступила полоса на челюстях и лбу, показывавшая границу его утреннего умывания, заговорил резким голосом. На мать он взглядывал редко, больше смотрел на свои крепкие, мускулистые ноги в толстых и длинных чулках из грубой шерсти. По его голосу Софка поняла, что он чем-то озадачен. И, догадавшись, усмехнулась. Очевидно, албанец, как и прочие посланные отца, отправляясь к ним, полагал увидеть мать и Софку, как и весь дом, в большей бедности и мысленно готовился в утешение им порицать отца и говорить, что он, мол, живет в Турции не лучше. А вот поди ж ты, ошибся! Он увидел Софку и ее мать, которая, несмотря на свои сорок с лишним лет, выглядела еще молодой и свежей. В глазах ее дрожал огонек, черные как смоль волосы блестели. Правда, вокруг глаз и рта виднелись морщинки, но они были едва приметны на ее свежем, округлом, нежном и, как молоко, белом лице. И если она так хороша в будничном платье, то как же она должна выглядеть, когда приоденется!
И как смиренно стоит она перед ним, как робко расспрашивает о «самом», беспрестанно укоряя себя, что заранее не догадалась приготовить то, что он может потребовать, и вот теперь не в состоянии сразу все передать посланному. Извиняясь, она сказала, что все пришлет со слугой в харчевню, где остановился албанец.
По выражению его лица Софка поняла, какое впечатление произвел на него их дом. В особенности, когда он поглядел туда, где Софка варила кофе, и увидел, как в темной, просторной кухне поблескивали большие, тяжелые подносы и широкие медные сковороды, увидел прямо против того места, где сидел, лестницу, ведущую на второй этаж, у ворот старую ветвистую шелковицу, а еще дальше тумбу, правда, почти вросшую в землю, но со сверкающей мраморной верхушкой. Албанец совсем оробел. Быстро, большими глотками он выпил кофе и сразу поднялся — причем встал не на середину мощеной дорожки, а с краю, как бы боясь ее запачкать, — прося прощения и приговаривая, чтоб мать не спешила и что он будет ожидать в харчевне, пока она все приготовит.
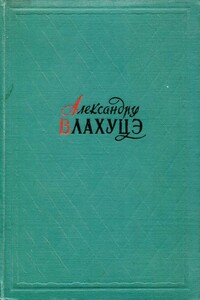
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Распространение холерных эпидемий в России происходило вопреки карантинам и кордонам, любые усилия властей по борьбе с ними только ожесточали народ, но не «замечались» самой холерой. Врачи, как правило, ничем не могли помочь заболевшим, их скорая и необычайно мучительная смерть вызвала в обществе страх. Не было ни семей, ни сословий, из которых холера не забрала тогда какое-то число жизней. Среди ученых нарастало осознание несостоятельности многих воззрений на природу инфекционных болезней и способов их лечения.

"Характеры, или Нравы нынешнего века" Жана де Лабрюйера - это собрание эпиграмм, размышлений и портретов. В этой работе Лабрюйер попытался изобразить общественные нравы своего века. В предисловии к своим "Характерам" автор признался, что цель книги - обратить внимание на недостатки общества, "сделанные с натуры", с целью их исправления. Язык его произведения настолько реалистичен в изображении деталей и черт характера, что современники не верили в отвлеченность его характеристик и пытались угадывать в них живых людей.
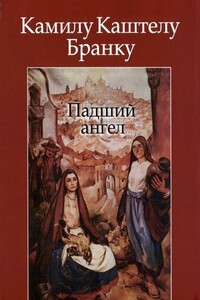
Роман португальского писателя Камилу Каштелу Бранку (1825—1890) «Падший ангел» (1865) ранее не переводился на русский язык, это первая попытка научного издания одного из наиболее известных произведений классика португальской литературы XIX в. В «Падшем ангеле», как и во многих романах К. Каштелу Бранку, элементы литературной игры совмещаются с ироническим изображением современной автору португальской действительности. Использование «романтической иронии» также позволяет К. Каштелу Бранку представить с неожиданной точки зрения ряд «бродячих сюжетов» европейской литературы.
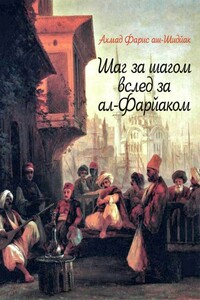
Представляемое читателю издание является третьим, завершающим, трудом образующих триптих произведений новой арабской литературы — «Извлечение чистого золота из краткого описания Парижа, или Драгоценный диван сведений о Париже» Рифа‘а Рафи‘ ат-Тахтави, «Шаг за шагом вслед за ал-Фарйаком» Ахмада Фариса аш-Шидйака, «Рассказ ‘Исы ибн Хишама, или Период времени» Мухаммада ал-Мувайлихи. Первое и третье из них ранее увидели свет в академической серии «Литературные памятники». Прозаик, поэт, лингвист, переводчик, журналист, издатель, один из зачинателей современного арабского романа Ахмад Фарис аш-Шидйак (ок.

«Мартин Чезлвит» (англ. The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit, часто просто Martin Chuzzlewit) — роман Чарльза Диккенса. Выходил отдельными выпусками в 1843—1844 годах. В книге отразились впечатления автора от поездки в США в 1842 году, во многом негативные. Роман посвящен знакомой Диккенса — миллионерше-благотворительнице Анджеле Бердетт-Куттс. На русский язык «Мартин Чезлвит» был переведен в 1844 году и опубликован в журнале «Отечественные записки». В обзоре русской литературы за 1844 год В. Г. Белинский отметил «необыкновенную зрелость таланта автора», назвав «Мартина Чезлвита» «едва ли не лучшим романом даровитого Диккенса» (В.
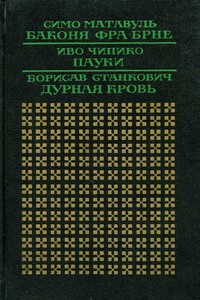
Симо Матавуль (1852—1908), Иво Чипико (1869—1923), Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейшие представители критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В книгу вошли романы С. Матавуля «Баконя фра Брне», И. Чипико «Пауки» и Б. Станковича «Дурная кровь». Воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, авторы осуждают нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.

Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.
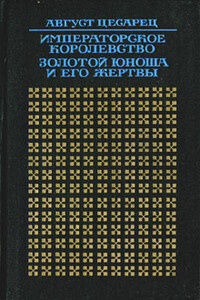
Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.

Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.