Дураки, мошенники и поджигатели. Мыслители новых левых - [2]
Тому есть две причины: во-первых, эти мыслители сами называют себя именно так. Во-вторых, все они демонстрируют один и тот же живучий взгляд на мир, который неизбежно преследует западную цивилизацию по крайней мере со времен Просвещения. В его основе лежат комплексные социальные и политические теории, к которым у меня еще будет случай обратиться далее. Многие из затрагиваемых далее тем связаны с движением новых левых, набравшим популярность в 1960–1970-х годах. Другие относятся к широкому спектру политических идей послевоенных лет, согласно которым государство должно нести ответственность за общество и его следует наделить полномочиями по распределению благ.
«Мыслители новых левых» были опубликованы до распада Советского Союза, до образования империи под названием Европейский союз и до того, как Китай стал примером бандитского капитализма. Естественно, новые левые мыслители должны были бы принять во внимание эти события. Крах коммунизма в Восточной Европе и повсеместная слабость социалистических экономик ненадолго обеспечили доверие к экономическим мерам «новых правых». В стороне не осталась даже Лейбористская партия Великобритании, которая исключила п. IV о приверженности принципу государственной собственности из своего устава и приняла положение, согласно которому промышленность больше не относится непосредственно к сфере ответственности правительства.
На какое-то время даже показалось, что можно будет услышать извинения от тех, кто направлял свои интеллектуальные и политические усилия на обеление Советского Союза или восхваление «народных республик» Китая и Вьетнама. Однако сомнения длились недолго. Прошло десятилетие, и представители левого истеблишмента снова оказались в седле. Возобновили свои нападки на политику США Ноам Хомский и Говард Зинн. В Европе левые снова объединились против «неолиберализма», как будто все это время он был главной проблемой. Дворкин и Хабермас получали премию за премией за свои трудночитаемые, но безупречно ортодоксальные книги. А заслуженный коммунист Эрик Хобсбаум за свою непоколебимую преданность Советскому Союзу был награжден Орденом Кавалеров Почета.
И в самом деле, враг выглядел теперь иначе: марксистский шаблон уже не так-то легко подходил к новым условиям, и казалось, что несколько глуповато бороться за дело рабочего класса, когда его последние представители вступают в ряды нетрудоспособных или самозанятых. А затем наступил финансовый кризис, когда люди по всему миру были брошены в сравнительную бедность, тогда как очевидные виновники – банкиры, финансисты и спекулянты – остались в неприкосновенности, сохранив свои бонусы. В результате книги, посвященные критике рыночной экономики, снова обрели популярность, то напоминая нам, что подлинные блага не подлежат обмену («Что нельзя купить на деньги» Майкла Сэндела), то доказывая, что рынки в современных условиях приводят к массовому перераспределению материальных благ от самых бедных к наиболее богатым («Цена неравенства» Джозефа Стиглица и «Капитал в XXI веке» Тома Пикетти). И из неиссякаемого источника марксистского гуманизма мыслители извлекли новые аргументы в подтверждение моральной и духовной деградации человечества в условиях свободного обмена («Эстетизация мира. Жизнь в эпоху художественного капитализма» Жиля Липовецки и Жана Серуа, «NO LOGO» Наоми Кляйн и «Я трачу, следовательно, я существую» Филиппа Роско).
Поэтому левые мыслители и писатели быстро восстановили равновесие, убедив мир в том, что они никогда в действительности не находились под влиянием коммунистической пропаганды, и возобновили атаки на западную цивилизацию и ее «неолиберальные» экономики как на главную угрозу человечеству в глобализированном мире. Слово «правый» так и осталось ругательным, как это было до падения Берлинской стены, а оппозиционное рвение не претерпело в новых условиях сильного смягчения. Этот примечательный факт – одна из загадок, которые я пытаюсь разгадать в этой книге.
Позиция левых ясно обозначилась, как только появилось само различие между левыми и правыми. Левые полагают вслед за якобинцами времен Французской революции, что блага в мире несправедливо распределены. И корень этой проблемы не в человеческой природе, а в узурпации власти и прав господствующим классом. Они определяют себя через оппозицию к действующей власти как поборников нового порядка, который удовлетворит давние жалобы всех угнетенных.
В обоснование стремления к новому порядку обычно приводят два его характерных признака: освобождение и «социальную справедливость». Отдаленно эти понятия соотносятся с идеями свободы и равенства времен Французской революции, но только отдаленно. Освобождение, проповедуемое левыми движениями сегодня, подразумевает не только свободу от политического угнетения или право заниматься своим делом, не опасаясь чьего-либо вмешательства. Под ним понимается избавление от «структур»: институтов, обычаев и конвенций, слагающих «буржуазный» порядок и образующих общую систему норм и ценностей, лежащих в основе западного общества. Даже левые мыслители, которые избежали влияния либертарианства 1960-х, считают свободу формой

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

Жизнь — это миф между прошлым мифом и будущим. Внутри мифа существует не только человек, но и окружающие его вещи, а также планеты, звезды, галактики и вся вселенная. Все мы находимся во вселенском мифе, созданным творцом. Человек благодаря своему разуму и воображению может творить собственные мифы, но многие из них плохо сочетаются с вселенским мифом. Дисгармоничными мифами насыщено все информационное пространство вокруг современного человека, в результате у людей накапливается множество проблем.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.
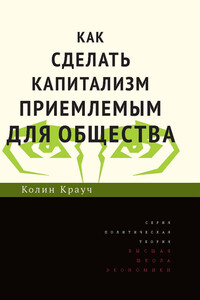
Капитализм – единственная известная нам система, которая способна обеспечить эффективную и инновационную экономику, но финансовый кризис обнажил пагубную сторону капитализма и показал, что выживание последнего по-прежнему зависит от государства. Можно ли реформировать капитализм так, чтобы он стал приемлемым для общества, или мы должны согласиться с точкой зрения, согласно которой обществу лучше предоставить рынкам полную свободу во всех сферах?Цель этой книги состоит в том, чтобы показать, что принятие капитализма и рынка не означает принятия идеи ничем не ограниченных рынков, отсутствия защищенности на рынке труда и пренебрежения окружающей средой и общественными услугами.
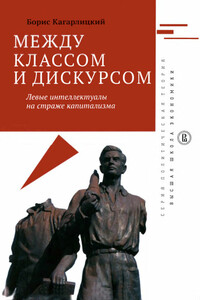
Политологическое исследование Бориса Кагарлицкого посвящено кризису международного левого движения, непосредственно связанному с кризисом капитализма. Вопреки распространенному мнению, трудности, которые испытывает капиталистическая система и господствующая неолиберальная идеология, не только не открывают новых возможностей для левых, но, напротив, демонстрируют их слабость и политическую несостоятельность, поскольку сами левые давно уже стали частью данной системы, а доминирующие среди них идеи представляют лишь радикальную версию той же буржуазной идеологии, заменив борьбу за классовые интересы защитой всевозможных «меньшинств». Кризис левого движения распространяется повсеместно, охватывая такие регионы, как Латинская Америка, Западная Европа, Россия и Украина.
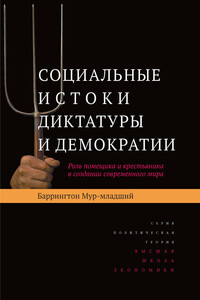
В классической работе выдающегося американского исторического социолога Баррингтона Мура-младшего (1913–2005) предлагается объяснение того, почему Британия, США и Франция стали богатыми и свободными странами, а Германия, Россия и Япония, несмотря на все модернизационные усилия, пришли к тоталитарным диктатурам правого или левого толка. Проведенный автором сравнительно-исторический анализ трех путей от аграрных обществ к современным индустриальным – буржуазная революция, «революция сверху» и крестьянская революция – показывает, что ключевую роль в этом процессе сыграли как экономические силы, так и особенности и динамика социальной структуры. Книга адресована историкам, социологам, политологам, а также всем интересующимся проблемами политической, экономической и социальной модернизации.
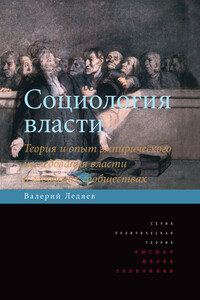
В монографии проанализирован и систематизирован опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах, начавшегося в середине XX в. и ставшего к настоящему времени одной из наиболее развитых отраслей социологии власти. В ней представлены традиции в объяснении распределения власти на уровне города; когнитивные модели, использовавшиеся в эмпирических исследованиях власти, их методологические, теоретические и концептуальные основания; полемика между соперничающими школами в изучении власти; основные результаты исследований и их импликации; специфика и проблемы использования моделей исследования власти в иных социальных и политических контекстах; эвристический потенциал современных моделей изучения власти и возможности их применения при исследовании политической власти в современном российском обществе.Книга рассчитана на специалистов в области политической науки и социологии, но может быть полезна всем, кто интересуется властью и способами ее изучения.