Дураки - [179]
— Очень просто! — сказал Хащ, не задумываясь. — Тут нужно совершить ход конем. — Обещанием получить студию он был на первый случай удовлетворен. Теперь засуетился отрабатывать. — Сейчас сочиним...
Тут же Дудинскас с Хащом уселись за стол под яблоней и стали прокачивать ситуацию.
Как себя повести Виктору Илларионовичу, чтобы вконец не поссориться и с «мировой общественностью», и с оппозиционерами новой волны, которые, хоть и со скрипом, но согласились пойти под его начало? Что, вообще говоря, только и делало переговоры официальными, потому что строго обозначало стороны...
Понятно, что как руководитель Верховного Совета сам Столяр вести переговоры не должен: не соответствует уровень. То есть если за стол садится Всенародноизбранный, тогда и Столяр. Но Батька, понятно, ни за какой стол не сядет. Он уже выставил от себя какого-то клерка. Тогда и Столяра должен представлять кто-то из помощников. Или скажем... водитель.
Посмеялись. Столяр подошел, выслушал, махнул рукой и снова отправился колоть дрова.
Тут вот Юра Хащ, режиссер, хлопнул себя по лбу. Посмотрел на Дудинскаса, словно оценивая, в состоянии ли тот его понять. Ну конечно же! Все очевиднее очевидного. У Столяра есть только один способ выйти сухим из этой глупой истории, не став причиной срыва переговоров, что подорвет его авторитет, и не устранившись от них, что ополчило бы на него оппозицию, лидеры которой видят, как этот авторитет растет, и откровенно опасаются, что Столяр может захватить бразды.
— Виктор. Илларионович. Должен. Исчезнуть.
— То есть как? — спросил Дудинскас.
— Очень просто. Тихо слинять, никому ничего не объясняя, — Хащ, уже заведенный, уже развивал захватившую его идею. — Представляешь, какой поднимется гвалт?! Вот начало предвыборной раскрутки, согласись?!
Дудинскас соглашаться не спешил. Хотя... Что-то интересное в этом предложении было. Да и Столяр, его выслушав, не отмахнулся.
Неясно было только, как и когда потом он объявится.
Но тут появился господин Вестерман, и в этом полудетективном сюжете они не успели дописать финала.
Кунц Вестерман в Дубинках бывал несколько раз. Однажды даже в качестве хозяина. Вскоре после ухода Федоровича и назначения министром иностранных дел молодого гэбиста Столыпова господин Вестерман придумал собрать европейских послов в Дубинки на дружеский ужин и пригласить на него нового министра, заметно выигрывавшего на фоне предшественника. Расчет был на то, что в неформальной обстановке удастся установить хоть какой-то контакт с новым главой внешнеполитического ведомства. К тому же тот по совместительству был назначен еще и вице-премьером, что свидетельствовало о его приближенности к Всенародноизбранному, а значит (можно надеяться), и о некоторой возможности с его помощью на Батьку хоть как-то влиять.
Вечер тогда удался на славу, хотя своим гурманством господин Вестерман доставил немало хлопот супруге Ду-динскаса, принимавшей гостей. Правда, лучшим поводом для сближения стали не изысканность стола и даже не тщательно подобранная лично господином Вестерманом музыка (он оказался еще и музыкант), а капризы погоды. Из-за обрушившегося на Республику снегопада послам во главе с англичанкой Дженни Бирс на ее суперпроходимом джипе пришлось до глубокой ночи выбираться, толкая и вытаскивая машины из заносов, из-за чего министр Столыпов едва успел к президентскому самолету (утром они летели в Москву). Такие приключения сближают; Вестермана с министром оно сблизило до дружбы.
Встретившись со Столыповым на одном из приемов, куда Дудинскаса по старой памяти еще приглашали, Виктор Евгеньевич выразил ему свое «восхищение»: его предшественник Павел Павлович Федорович на такую вылазку бы не отважился, отчего (в том числе) и не мог рассчитывать на дружбу в дипкорпусе — ни с кем, кроме «номенклатурных» послов СНГ.
Виктор Столяр произвел на господина Вестермана благоприятное впечатление.
Начиная с того, как красиво этот симпатичный парень рубил для костра дрова. Как просто и свободно держался, как легко и непринужденно шутил.
Глядя на кипящий котел с покрасневшими раками, Виктор Столяр, обращаясь к дипломату, не без подтекста заметил, что, пожалуй, только раки от невыносимости условий хорошеют.
Кунц Вестерман не без подтекста вспомнил, что, кажется, в английском парламенте уже давно дебатируется проект закона, запрещающего варить раков заживо.
Немного помолчав, Виктор Илларионович с грустным сарказмом произнес:
— В наших условиях достаточно бы запретить бросать их в холодную воду. Чтобы не так мучались.
И знакомство состоялось.
Особое впечатление на немецкого дипломата произвело то, как твердо стоял на своем этот сравнительно молодой политик, с какой настойчивостью объяснял, почему нельзя прогибаться.
Давно уже немолодой и повидавший виды Кунц Вестерман смотрел на Столяра, слушал его, верил ему и не верил и прямо на глазах распрямлялся. Ему в самом конце карьеры, под занавес, в этой дыре, в этом непреходящем кошмаре вдруг повезло с новыми друзьями. Молодой и интеллигентный министр, все понимающий с полуслова, молодой и интеллигентный лидер оппозиции, так твердо стоящий на своем...
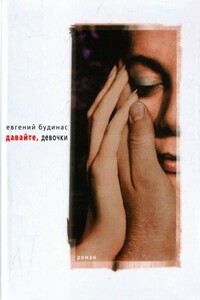
Книга, как эта, делается просто. Человек вступает в жизнь и горячо влюбляется. Он тут же берется за перо – спешит поведать миру об этих «знаменательных» событиях. Периодически отвлекаясь, он проживает бурную жизнь, последний раз влюбляется и едва успевает завершить начатое в юности повествование, попытавшись сказать о Любви так, как еще никто никогда об этом не говорил.
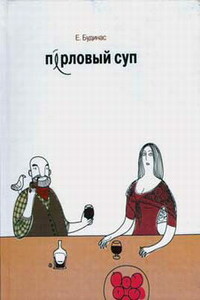
Эта удивительная книга появилась на свет благодаря талантливым авторам, художникам, фотографам, издателям, настоящим и преданным друзьям. В том числе отдельное спасибо. Г Вячеславу Лукашику за профессиональные рекомендации; Марии Тамазаевой (Павловой), Алексею Литвинову, Александру Гукину — за финансовую поддержку проекта; Александру Осокину — за неповторимую энергию истинного «шестидесятника», которая в ходе работы над книгой воодушевляла ее создателей и вселяла в них веру в абсолютную правильность начинаний.
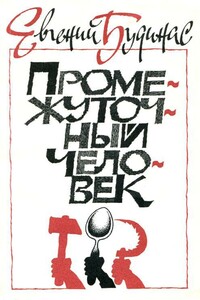
Действие романа Е. Будинаса «Промежуточный человек» происходит в большом городе и в маленькой деревушке Уть, где один преуспевающий молодой человек строит себе дачу-поместье. Делает он это, мастерски используя особенности и слабости нашей хозяйственно-бюрократической системы. Им движет не столько материальный интерес, сколько азарт своеобразного художника, решившего доказать друзьям-скептикам, что прочная система может обеспечить человеку благополучие, если жить по ее законам. «Если есть забор, — говорит этот персонаж, — то в условиях реального социализма должна быть и дырка в заборе».
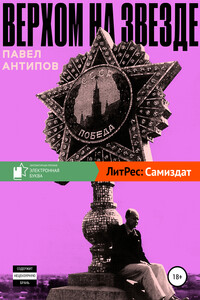
Автобиографичные романы бывают разными. Порой – это воспоминания, воспроизведенные со скрупулезной точностью историка. Порой – мечтательные мемуары о душевных волнениях и перипетиях судьбы. А иногда – это настроение, которое ловишь в каждой строчке, отвлекаясь на форму, обтекая восприятием содержание. К третьей категории можно отнести «Верхом на звезде» Павла Антипова. На поверхности – рассказ о друзьях, чья молодость выпала на 2000-е годы. Они растут, шалят, ссорятся и мирятся, любят и чувствуют. Но это лишь оболочка смысла.
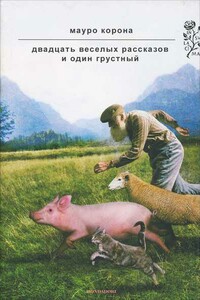
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
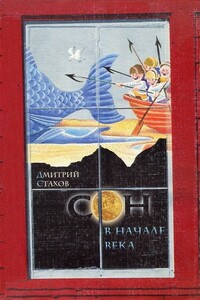
УДК 82-1/9 (31)ББК 84С11С 78Художник Леонид ЛюскинСтахов Дмитрий ЯковлевичСон в начале века : Роман, рассказы /Дмитрий Стахов. — «Олита», 2004. — 320 с.Рассказы и роман «История страданий бедолаги, или Семь путешествий Половинкина» (номинировался на премию «Русский бестселлер» в 2001 году), составляющие книгу «Сон в начале века», наполнены безудержным, безалаберным, сумасшедшим весельем. Весельем на фоне нарастающего абсурда, безумных сюжетных поворотов. Блестящий язык автора, обращение к фольклору — позволяют объемно изобразить сегодняшнюю жизнь...ISBN 5-98040-035-4© ЗАО «Олита»© Д.
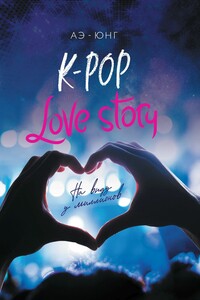
Элис давно хотела поработать на концертной площадке, и сразу после окончания школы она решает осуществить свою мечту. Судьба это или случайность, но за кулисами она становится невольным свидетелем ссоры между лидером ее любимой K-pop группы и их менеджером, которые бурно обсуждают шумиху вокруг личной жизни артиста. Разъяренный менеджер замечает девушку, и у него сразу же возникает идея, как успокоить фанатов и журналистов: нужно лишь разыграть любовь между Элис и айдолом миллионов. Но примет ли она это провокационное предложение, способное изменить ее жизнь? Догадаются ли все вокруг, что история невероятной любви – это виртуозная игра?
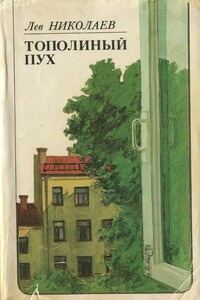
Очень просты эти понятия — честность, порядочность, доброта. Но далеко не проста и не пряма дорога к ним. Сереже Тимофееву, герою повести Л. Николаева, придется преодолеть немало ошибок, заблуждений, срывов, прежде чем честность, и порядочность, и доброта станут чертами его характера. В повести воссоздаются точная, увиденная глазами московского мальчишки атмосфера, быт послевоенной столицы.
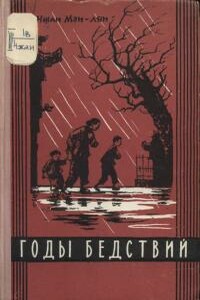
Действие повести происходит в период 2-й гражданской войны в Китае 1927-1936 гг. и нашествия японцев.
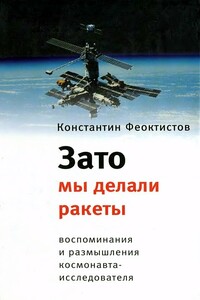
Константин Петрович Феоктистов — инженер, конструктор космических кораблей, один из первых космонавтов.Его новая книга — увлекательный рассказ о становлении космонавтики и о людях, чьи имена вписаны в историю освоения космоса. Но главная озабоченность К. П. Феоктистова — насущные проблемы человечества. Своими размышлениями о подходах к решению глобальных задач настоящего и ближайшего будущего делится с читателями автор.
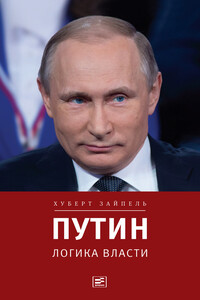
«Хуберт Зайпель имеет лучший доступ к Путину, чем любой другой западный журналист» («Spiegel»). В этом одно из принципиально важных достоинств книги – она написана на основе многочисленных личных встреч, бесед, совместных поездок Владимира Путина и немецкого тележурналиста. Свою главную задачу Зайпель видел не в том, чтобы создать ещё один «авторский» портрет российского президента, а в том, чтобы максимально точно и полно донести до немецкого читателя подлинные взгляды Владимира Путина и мотивы его решений.
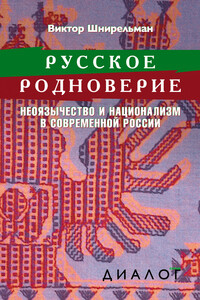
Книга посвящена истории русского неоязычества от его зарождения до современности. Анализируются его корни, связанные с нарастанием социальной и межэтнической напряженности в СССР в 1970-1980-е гг.; обсуждается реакция на это радикальных русских националистов, нашедшая выражение в научной фантастике; прослеживаются особенности неоязыческих подходов в политической и религиозной сферах; дается характеристика неоязыческой идеологии и показываются ее проявления в политике, религии и искусстве. Рассматриваются портреты лидеров неоязычества и анализируется их путь к нему.
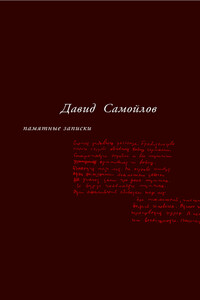
В конце 1960-х годов, на пороге своего пятидесятилетия Давид Самойлов (1920–1990) обратился к прозе. Работа над заветной книгой продолжалась до смерти поэта. В «Памятных записках» воспоминания о детстве, отрочестве, юности, годах войны и страшном послевоенном семилетии органично соединились с размышлениями о новейшей истории, путях России и русской интеллигенции, судьбе и назначении литературы в ХХ веке. Среди героев книги «последние гении» (Николай Заболоцкий, Борис Пастернак, Анна Ахматова), старшие современники Самойлова (Мария Петровых, Илья Сельвинский, Леонид Мартынов), его ближайшие друзья-сверстники, погибшие на Великой Отечественной войне (Михаил Кульчицкий, Павел Коган) и выбравшие разные дороги во второй половине века (Борис Слуцкий, Николай Глазков, Сергей Наровчатов)