Дума иван-чая - [6]
Шрифт
Интервал
вспыхивает всё ярче, ярче?
— Просто штыки блестят, дорогая,
блестят на марше.
— Смотри: одна колонна, вторая —
зачем собралось их так много, так много?
— Просто ученья идут, дорогая,
а может — тревога.
— Зачем они взяли дорогой другою,
слышишь: шаги их всё четче, четче?
— Наверно, приказ. Почему, дорогая,
ты шепчешь Отче!
— Они поворачивают, забирая
к доктору в дом, правда же, правда?
— Нет: ведь не ранен никто, дорогая,
из их отряда.
— Им нужен священник, я догадалась,
именно он — я права ли, права ли?
— Нет: ведь они и его, дорогая,
дом миновали.
— Значит, к соседу, живущему с края
нашего сада, нашего сада!
— Нет: они входят уже, дорогая,
в нашу ограду.
— Куда ты? Останься со мной, умоляю,
клятву нарушить нельзя ведь, нельзя ведь!
— Я клялся любить тебя, дорогая,
но должен оставить.
К дверям подходят, замок сломали,
по коридору скрипит кирза,
половицы гнутся под сапогами,
горят глаза.
«Холодно и людно. Сказав прощай…»
Холодно и людно. Сказав прощай,
некуда уйти. Перемена поз —
вот и вся разлука. Перенимай
призрака привычку глядеть без слез
(все равно невидимых, лей — не лей)
в те глаза, где сам он не отражен:
только лица чужих и живых людей,
неподвижный поезд, скользкий перрон.
Сентябрь 1990
«За рекою делают шоколад…»
Д.
1
За рекою делают шоколад.
На реке начинается ледоход.
И мы ждем от реки, но пока не идет
не троллейбус, но призрак его пустой —
свет безлюдный, бесплотный, летящий вперед
под мотора вой
и под грохот рекламных лат.
Нам не холодно, жди себе, стой.
Небо синее, и фонари горят.
2
Каждой новой минуты как призрака ждать,
для него одного наводить марафет,
пудрить светом лицо — плохо держится свет,
а без этого грима ты неотличим
не от множества лиц, но от прожитых лет,
словно звезды далеких и легких как дым.
3
Но от сладкого дыма, от славы небес,
как от книги, на миг подыми
заглядевшиеся глаза:
как звезда ни сияй, как завод ни дыми,
у всего есть край: золотой ли обрез
или облака полоса.
4
Отвернувшись от свадеб чужих и могил,
не дождавшись развязки, я встал
и увидел огромную комнату, зал,
стены, стены, Москву и спросил:
где тот свет, что страницы всегда освещал,
где тот ветер, что их шевелил?
5
Поздно спрашивать: каждый бывал освещен
и распахнут на правильном сне
для расширенных, точно зеницы, минут,
невредимых, как дым или сон:
прилетают, блестят, обещанье берут:
помни, помни (прощай) обо мне.
1992
Дафна (2)
Д.
Память, ходи, как по парку прохожий,
хмурься, как злой белокурый идол,
строивший куры сменившим кожу
на шорох листьев и хвойных игл.
Нацепляя то те, то иные очи
искалеченных временем аллегорий,
помни только себя: курил, мол, ночью
на тусклом фоне чужого горя.
Белые вспышки и хрупкие линзы
жалости, давнего счастья, обиды.
Загнанной и бессловесной жизни
оцепеневшие виды.
Вдруг воспоминаний чужих прохлада,
общий шелест, кроме зевак и статуй.
Покачнись, заражаясь слабостью сада,
чем глазеть-коченеть под листвой, под утратой.
1992
«Как в бессонницу энный слон…»
Как в бессонницу энный слон,
по ночам мычавший: о сон,
ты ко всем успел, а ко мне?
ведь заря уже из-за кровель —
а ему ни намека о сне,
и не мерк над слонами твой профиль;
или очередной армстронг
по растянутой в небе Луне —
вон по той Луне, посмотри:
там на пяльцах крахмальный до хруста
бледный наст, и сверкает как снег
борозда от тупых подковок;
и по масти, по жестам, по росту
он — душа скорей, чем человек,
бел, огромен, неловок,
человека спрятал внутри;
и как он, не совсем весом,
и похожие делая па,
и качаясь не сам, но несом
сквозь твоих локтей, вдоль лопаток
теми, комната кем все полней,
кто от наших же жестов рожден,
кто незрим, но на зримое падок
(все теснее, до астмы, толпа
хором шаркающих теней) —
с ними-то и топчусь в унисон,
будто к воздуху с кольцевой:
то на кафель, то в слякоть ступив,
в хороводе идущих домой
не сфальшивит нахал, ни тихоня —
роль забыта, но помнят мотив,
под который, рукав к рукаву,
к ворсу ворс, только взоры врозь,
эскалатор везет, как и вез,
нас, участвующих наяву
в отмененной давно церемонии.
1994
Нескучный сад (3)
1
Мы на воздух выйдем,
там поговорим.
Воздух, ты невидим,
как чужое сердце,
и до гроба верен.
Ты, по крайней мере,
будешь рад согреться
голосом моим.
2
Ты весною ранней
в пустоте весенней,
как оно, изранен
иглами рассвета
или голых веток
и перемещеньем
нескольких теней
от прохожих редких,
например, моей.
3
Кто жесток, кто жалок,
номер чьей-то тени —
совесть, чьей-то – страсть.
Волею-неволей,
угрызеньем, жалом
если тень проколет
сердце — впечатленье,
что она всего лишь
часть, его же часть.
4
Пасмурно по спальням,
только кухонь рамы
разом озарились
в населенной нами
каменной рекламе
счастья или зла.
Жизнь моя хранилась
не в моем, а в дальнем
сердце, как игла.
5
И о той, кто плачет,
говоря так долго:
заступи, помилуй,
говорил я, значит:
хоть мою иголку
затупи, сломай.
Но не ты, прозрачный,
а неона жила,
буквами мигай.
1991, 1994
Sunt aliquid manes
Из Проперция
Маны не ноль; смерть щадит кое-что.
Бледно-больной призрак-беглец
перехитрит крематорскую печь.
Вот что я видел:
ко мне на кровать
Цинтия прилегла —
Цинтию похоронили на днях
за оживленным шоссе.
Я думал о похоронах подруги,
я засыпал,
я жалел, что настала зима в стране постели моей.
Те же волосы, с какими ушла,
те же глаза; платье прожжено на боку;
Еще от автора Григорий Михайлович Дашевский
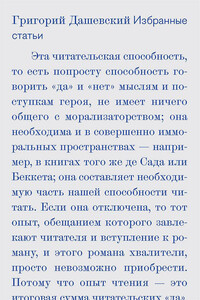
Поэт и переводчик Григорий Дашевский многие годы работал журнальным обозревателем, откликаясь на новые книги и литературные события. Собранные вместе и на расстоянии от новостных поводов, эти тексты лишь усиливают свою интеллектуальную и этическую остроту, высвечивая фигуру едва ли не самого самостоятельного, ясного и ответственного мыслителя нынешнего времени.