Дух - [3]
Моё постоянное общение с Джилани, и завязавшиеся на этой почве дружеские отношения, постепенно переросли во что-то большее, чем просто служебные отношения подчиненного и начальника. Зная, что Джилани имеет троих детей, которые фактически живут впроголодь, я помогал, чем мог. Всякий раз, выезжая с ним на рекогносцировку в Бригаду[5], я покупал в чековом ларьке конфеты, сгущенку, прочие сладости, отлично понимая, что он отдаст их своим детям. Доброжелательные отношения между мной и Джилани, рано, или поздно, должны были сыграть решающую роль в достижении положительного результата по вербовке одного из полевых командиров.
Старший брат Джилани — Абдулла — был, кстати, руководителем одного из серьезных формирований моджахедов в пригороде Кандагара. Операции, проведенные его отрядом в 1983/85 гг. под Кандагаром, а также в провинциях Гильменд и Заболь, долго еще будут помнить те, кто с ним воевал.
Моджахеды
Гражданская война, начавшаяся сразу после Апрельской революции, расколола Афганистан надвое. Те, кто не принял нового порядка, автоматически попадал в категорию «духов», а те, кто вставал на защиту новой власти, становились «неверными» для Ислама, как это представляли местные проповедники мусульманства.
К ограниченному контингенту советских вооруженных сил, введенному в Афган 25 декабря 1979 года, местное население относилось как к оккупантам. Практически во всех провинциях развернулось массовое движение сопротивления. Особо ожесточенное противодействие советским войскам моджахеды оказывали на юге страны, в том числе и в Кандагарской провинции. Советская военная машина также особенно не либеральничала. Вся территория Афгана была изрыта бомбовыми воронками, а города и кишлаки превращены в руины.
Статистика — неумолимая вещь. Шурави потеряли на афганской войне около 15 тысяч погибшими (груз 200) и около 56 тыс. ранеными (груз 300). А сколько моральных инвалидов получила Родина из более чем 500 тысяч вернувшихся домой живыми? До сих пор их никто так и не подсчитал.
Афганистан пострадал еще круче.
Кроме разваленной экономики, от которой практически не осталось ничего, страна получила более миллиона убитых соотечественников, и это при 15-ти миллионной численности коренного населения (с учетом кочевых племен)! О количестве раненных и покалеченных афганцев говорить вообще не приходится.
Как ни парадоксально, но моджахеды, имеющие боевой опыт, страдали меньше всего. Основные потери несли мирные жители. Хотя, на этой войне было очень трудно отличить одних от других. Пастух, мирно пасущий в дневное время отару овец, ночью превращался в моджахеда-головореза…
Моджахедами становились по разным причинам. Одни брали в руки оружие и мстили госвласти и «шурави» за убитых родственников, за потерянное имущество, нажитое годами. Другие, попадая в сложную житейскую ситуацию, шли в банду «на заработки». Денег от продажи украденного, или захваченного в бою автомата Калашникова, вполне хватало для выплаты «калыма» за очередную жену, или оплаты старых долгов.
Публика в бандах подбиралась разношерстная, от обиженных и оскорбленных честолюбцев, до махровых уголовников.
В главарях банд зачастую ходили бывшие военные, землевладельцы, учителя (муалемы), религиозные деятели (муллы), а также авторитетные люди, выдвигаемые на этот пост старейшинами племен (Джиргой).
Практика афганской войны показала, что особую жестокость по отношению к противнику, чаще всего проявляли банды укомплектованные малограмотными пастухами и декханами. Оторванные войной от земли, лишенные последнего куска хлеба, они воспринимали противника как причину всех своих житейских невзгод. Им нечего было терять, поскольку, их дома были разрушены, а близкие родственники зачастую убиты. Их руки, отвыкшие от созидательного труда, умели только убивать. Примитивная психология рядовых моджахедов легко поддавалась влиянию со стороны наиболее грамотных главарей. Ну а если главарем банды был мулла, жестокость обретала идейную подоплеку джихада.
Среди главарей попадались откровенные садисты, которым война приносила моральное наслаждение. Таковых было не особенно много, но проблемы они создавали весьма серьезные.
В Кандагарской провинции наверно только бессловесные ишаки не знали полевого командира Муллу Маланга. При упоминании имени этого головореза, у людей от ужаса стыла кровь в жилах. Его ненавидели не только шурави, но и сами афганцы.
Двадцатидевятилетний низкорослый мужичонка, каковых у нас на Руси издревле обзывали «метр с кепкой», держал в страхе всю округу. О его похождениях и садистских наклонностях ходили легенды, которые, тем не менее, имели под собой весьма конкретные обоснования. Мулла Маланг разъезжал на скоростной «Тойоте», способной перевозить до полутора десятка моджахедов. В кузове грузовичка постоянно лежала широкая доска, с которой Маланг никогда не расставался. Её он использовал в качестве своеобразного жертвенника, на котором казнил своих недругов. Попасть на эту доску мог любой, даже член банды, заподозренный в измене. Маланг разработал своеобразный ритуал, состоящий из целого букета изощренных пыток с постепенным расчленением человеческой плоти. Жертва умирала в страшных муках, которые трудно даже представить. За Малангом долго и упорно охотились афганские и советские спецслужбы. За его голову обещали хорошую награду. Но он был неуловим. В 1985 году агентам афганского МГБ удалось вычислить место дислокации его банды, и спецназовцы ГРУ провели дерзкую операцию по её уничтожению. В ходе жестокого боя банда была фактически уничтожена. Однако Малангу и двум его телохранителям удалось избежать возмездия.
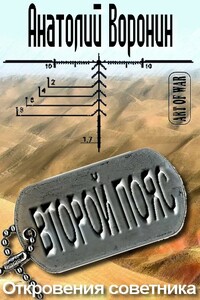
«Второй пояс» — кодовое название одной из многочисленных операций, проведенных Сороковой Армией во взаимодействии с афганскими силовыми структурами. Но было бы ошибочным полагать, что в этом повествовании пойдет речь только о войсковой операции. Все намного сложней и запутанней чем можно себе представить. В книге раскрываются некоторые моменты того, что на самом деле происходило в Афганистане незадолго до вывода оттуда советских войск. В определенной мере приоткрывается завеса таинственности и секретности, сопровождавшая деятельность советников силовых структур СССР.
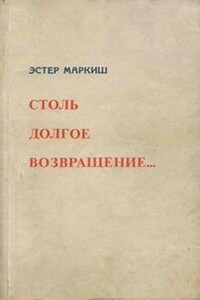
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Великого князя не любили, он не был злой человек, но в нём было всё то, что русская натура ненавидит в немце — грубое простодушие, вульгарный тон, педантизм и высокомерное самодовольство — доходившее до презрения всего русского. Елизавета, бывшая сама вечно навеселе, не могла ему однако простить, что он всякий вечер был пьян; Разумовский — что он хотел Гудовича сделать гетманом; Панин за его фельдфебельские манеры; гвардия за то, что он ей предпочитал своих гольштинских солдат; дамы за то, что он вместе с ними приглашал на свои пиры актрис, всяких немок; духовенство ненавидело его за его явное презрение к восточной церкви».Издание 1903 года, текст приведен к современной орфографии.

В 1783, в Европе возгорелась война между Турцией и Россией. Граф Рожер тайно уехал из Франции и через несколько месяцев прибыл в Елисаветград, к принцу де Линь, который был тогда комиссаром Венского двора при русской армии. Князь де Линь принял его весьма ласково и помог ему вступить в русскую службу. После весьма удачного исполнения первого поручения, данного ему князем Нассау-Зигеном, граф Дама получил от императрицы Екатерины II Георгиевский крест и золотую шпагу с надписью «За храбрость».При осаде Очакова он был адъютантом князя Потёмкина; по окончании кампании, приехал в Санкт-Петербург, был представлен императрице и награждён чином полковника, в котором снова был в кампании 1789 года, кончившейся взятием Бендер.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания.