Другой Рим - [81]
Воздействие греческой философии, некоторое взаимодействие, взаимопроникновение между греческой философией и христианским учением порождало определенного рода возможности, определенного рода проблемы, противоречия, иногда противоречия незамеченные и т. д.
Насколько серьезным было усвоение языка греческой философии, показывает очень многое. Скажем, в Символе веры, в христианской молитве, которая начинается словом «Верую» (Credo) и звучит за каждой литургией, есть слово «единосущный» (греч. homousios), которое не имеет никаких лексических соответствий в Библии, но является философским термином.
Вообще без философских терминов построить христианскую теологию было бы невозможно. А христианство — это религия, в которой богословие, учение, доктрина играет совсем особую роль. Не только сравнительно с каким–нибудь язычеством, сводимым к обрядам; нет, даже и сравнительно с тем же иудаизмом, который тоже — «учение». (Само слово «Тора», означающее Пятикнижие, которое мы привыкли переводить как «закон», означает, собственно, не «закон», а «учение».) Момент учения, доктринальный момент в иудаизме важен, но он ослабляется, поскольку вопрос об идентичности верующего решается в огромной степени двумя факторами: национальной принадлежностью и соблюдением обрядов; острота отношения к согласию в вопросах доктрины сразу же слабеет — просто потому, что это место занято, этот вес положен уже на другие несущие опоры. Доктрина важна — и все–таки никогда не важна до такой степени.
В христианстве — все иначе. Некоторые темные моменты в истории эмпирического христианства, взрывы нетерпимости определенным образом связаны именно с этим. Для христиан таким же трагическим моментом, каким для иудаистов или для мусульман может быть обладание какой–то пядью земли, где стоял ветхозаветный Храм, всегда мог быть вопрос о точном формулировании вероучительных положений.
Христианин ведь не может в окончательной инстанции определить свою идентичность своим происхождением и соблюдением обрядов. Это не христианский ответ: ну, я родился от христианских родителей; я русский, значит, я — православный; я поляк, значит, я — католик. Это не христианский ответ, хотя в быту вполне возможный. Но это всегда — бытовая периферия христианства. «Христианами, — сказал Тертуллиан раз и навсегда, не только для тех веков, когда христианами становились бывшие язычники, — не рождаются, христианами становятся». Он знал, что говорил. Христианская идентичность решается исповеданием веры, правильным, точным, адекватным и, в идеале, — жизнью, соответствующей этому исповеданию. Но поэтому вопрос об учении для христианства — крайне острый вопрос.
Христиане, разумеется, могут и должны учиться, и как–то научаются от века к веку не быть соблазняемы важностью этого вопроса к тому, чтобы решать доктринальные вопросы огнем и мечом. История как–то, кажется, научила значительную часть христиан, что ничего хорошего для веры из этого не получается; однако христианской альтернативой нетерпимости может быть только любящее терпение, но никак не безразличие к док–тринальным вопросам, никак не такой взгляд, что, мол, это не так важно, что человек думает о Боге, — лишь бы он прилично вел себя. Христиане убеждены: что человек думает о Боге и как он будет себя вести — это вещи очень глубоко связанные между собой; поэтому невозможно отделить моральные проблемы от вероучительных. Другое дело, что вероучительные конфликты, наряду с этими содержательными причинами, и в истории имели, имеют и будут иметь какие–то другие, менее содержательные мотивы: мотивы чисто социального характера, мотивы увлечения спором, воли к самоутверждению, нежелания быть такими, как вот эти; хотя Христос в притче о мытаре и фарисее вроде бы раз и навсегда научил, что гибель для человека — радоваться, что, мол, я не таков, как вот этот, другой человек; но это такая наука, которая очень худо дается эмпирическим христианам. И вся та евангельская критика, которая касается фарисеев, сохраняет самую живую, самую свежую актуальность для всех поколений христиан уже две тысячи лет.
Людям можно дать простые отрицательные заповеди, очень важные: не убий, не укради, не прелюбодействуй и т. д., и человек будет знать, даже нарушая эту заповедь, что заповедь такова. Но вот вопрос: твердо зная, что некоторое поведение хорошо, а противоположное ему дурно, — как избежать довольства собой, практикуя хорошее поведение, и презрения и недружелюбия к другому, когда другой ведет себя вроде бы худо (или просто не так, как я)? Заповеди и определения, моральные и обрядовые требования того же иудаизма, того же ислама исполнять трудно. Не будем врать, что легко, — очень трудно. Праведников, которые исполняют до конца свой религиозный долг, в каждой из этих религий, конечно, очень мало. Но можно представить себе человека, который в системе иудаизма или в системе ислама исполнил бы ВСЕ, что от него требует религия, и честно знал бы, что все в порядке. Христианину такая перспектива не угрожает. Он не может выполнить ВСЕГО.
Несколько слов о доктринальных спорах. Это для христианства вещь необходимая и содержательная. Интересно, когда усиливается доктринальное небрежение. Я не говорю о явлениях простого индифферентизма и размывания веры, но даже там, где вера сильна, доктринальная неточность обычно возникает, как раз когда придается слишком много значения обрядности. Можно видеть (иногда неожиданно) неосторожные доктриналь–ные формулировки у очень почтенных людей: учителей раннего старообрядчества. И это понятно: старообрядцы оказались как бы в положении иудеев: снова священный народ, чья вера — вера его предков, и его идентичность выражается в том, что он хранит обрядность. При таких предпосылках доктринальное напряжение мгновенно спадает, и у замечательного человека — протопопа Аввакума — можно найти такие поразительные выражения о святой Троице: «Несекомую (т. е. Нераздельную) — секи!» Такой серьезный человек был, на муки пошел и на смерть, а вот доктрина уже не была для него особенно серьезной, — именно потому, что раз двоеперстие так серьезно, двоеперстие и становится на место доктрины.
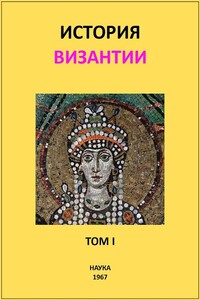
Первый том труда "История Византии" охватывает события с середины IV до середины VII века. В нем рассказано о становлении и укреплении Византийской империи, о царствовании Юстиниана и его значение для дальнейшего развития государства, о кризисе VII в. и важных изменениях в социальной и этнической структуре, об особенностях ранневизантийской культуры и международных связях Византии с Западом и Востоком.
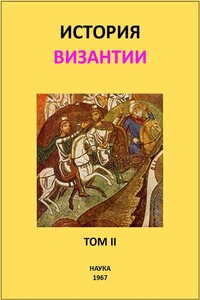
Второй том охватывает события византийской истории с конца VII до середины IX в. От этого периода византийской истории осталось мало источников. Почти полностью отсутствуют акты и подлинные документы. Сравнительно невелико количество сохранившихся монет. Почти совершенно нет архитектурных памятников того времени. Археологический материал, отражающий этот период, тоже крайне беден.

По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея УкраиныВ настоящий том собрания сочинений С. С. Аверинцева включены все выполненные им переводы из Священного Писания с комментариями переводчика. Полный текст перевода Евангелия от Матфея и обширный комментарий к Евангелию от Марка публикуются впервые. Другие переводы с комментариями (Евангелия от Марка, от Луки, Книга Иова и Псалмы) ранее публиковались главным образом в малодоступных теперь и периодических изданиях. Читатель получает возможность познакомиться с результатами многолетних трудов одного из самых замечательных современных исследователей — выдающегося филолога, философа, византолога и библеиста.Книга адресована всем, кто стремится понять смысл Библии и интересуется вопросами религии, истории, культуры.На обложке помещен образ Иисуса Христа из мозаик киевского собора Святой Софии.

Что, собственно, означает применительно к изучению литературы и искусства пресловутое слово «мифология»? Для вдумчивого исследователя этот вопрос давно уже перешел из категории праздных спекуляций в сферу самых что ни на есть насущных профессиональных затруднений.

В основе книги - сборник воспоминаний о Исааке Бабеле. Живые свидетельства современников (Лев Славин, Константин Паустовский, Лев Никулин, Леонид Утесов и многие другие) позволяют полнее представить личность замечательного советского писателя, почувствовать его человеческое своеобразие, сложность и яркость его художественного мира. Предисловие Фазиля Искандера.
![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В. С. Гроссман – один из наиболее известных русских писателей XX века. В довоенные и послевоенные годы он оказался в эпицентре литературных и политических интриг, чудом избежав ареста. В 1961 году рукописи романа «Жизнь и судьба» конфискованы КГБ по распоряжению ЦК КПСС. Четверть века спустя, когда все же вышедшая за границей книга была переведена на европейские языки, пришла мировая слава. Однако интриги в связи с наследием писателя продолжились. Теперь не только советские. Авторы реконструируют биографию писателя, попутно устраняя уже сложившиеся «мифы».При подготовке издания использованы документы Российского государственного архива литературы и искусства, Российского государственного архива социально-политической истории, Центрального архива Федеральной службы безопасности.Книга предназначена историкам, филологам, политологам, журналистам, а также всем интересующимся отечественной историей и литературой XX века.

Книга посвящена анализу поэтики Достоевского в свете разорванности мироощущения писателя между европейским и русским (византийским) способами культурного мышления. Анализируя три произведения великого писателя: «Записки из мертвого дома», «Записки из подполья» и «Преступление и наказание», автор показывает, как Достоевский преодолевает эту разорванность, основывая свой художественный метод на высшей форме иронии – парадоксе. Одновременно, в более широком плане, автор обращает внимание на то, как Достоевский художественно осмысливает конфликт между рациональным («научным», «философским») и художественным («литературным») способами мышления и как отдает в контексте российского культурного универса безусловное предпочтение последнему.

Анну Керн все знают как женщину, вдохновившую «солнце русской поэзии» А. С. Пушкина на один из его шедевров. Она была красавицей своей эпохи, вскружившей голову не одному только Пушкину.До наших дней дошло лишь несколько ее портретов, по которым нам весьма трудно судить о ее красоте. Какой была Анна Керн и как прожила свою жизнь, что в ней было особенного, кроме встречи с Пушкиным, читатель узнает из этой книги. Издание дополнено большим количеством иллюстраций и цитат из воспоминаний самой Керн и ее современников.

Издательство «Фолио», осуществляя выпуск «Малороссийской прозы» Григория Квитки-Основьяненко (1778–1843), одновременно публикует книгу Л. Г. Фризмана «Остроумный Основьяненко», в которой рассматривается жизненный путь и творчество замечательного украинского писателя, драматурга, историка Украины, Харькова с позиций сегодняшнего дня. Это тем более ценно, что последняя монография о Квитке, принадлежащая перу С. Д. Зубкова, появилась более 35 лет назад. Преследуя цель воскресить внимание к наследию основоположника украинской прозы, собирая материал к книге о нем, ученый-литературовед и писатель Леонид Фризман обнаружил в фонде Института литературы им.