Драма на Лубянке - [12]
— Отчего же иногда соколу и не залететь в воронье гнездо!
— Ослепший сокол хуже вороны.
— Вот как! — язвительно улыбнулся толстенький человечек. — Ну, а мне думается… мне думается, что это не так… Да что много толковать, пан поляк! Мы не философы какие-нибудь и нам нечего друг другу шпильки запускать. Будем говорить проще, по-нашему, по-московскому… Прежде всего, я человек простой, поэтому попросту и говорить буду. Не думаете ли вы, пан поляк, что вы в безопасности?
— Разумеется, думаю…
— О, нет, далеко нет! Стоит только мне подать знак, и вас схватят и свяжут, как какого-нибудь двухмесячного ягненка.
— Будто?
— Верно! Но вот, как видите, я добрее вас. Я не подаю этого знака, а вы… вы хорохоритесь… и даже, подите, хотели задушить меня…
— Что же вам от меня надо, наконец? — спросил встревоженно Лубенецкий.
— Ничего особенного, друг мой. Я не в вас. Я человек далеко не требовательный. Я простой человек. Мы вот пройдемся с вами, и только, да еще, пожалуй, поговорим кое о чем. Но предупреждаю вас, ясновельможный пане, не будьте строптивы. И кроме того, не забывайте, что вы все-таки московский мещанин, а я, как бы там ни было, в некотором роде особа…
— И прибавьте — особа таинственная, — некстати улыбнулся Лубенецкий.
— Вовсе не таинственная, — отвечал толстенький человечек. — Вы, пан, куда таинственнее меня. Я только старый воробей, жизнь которого исковеркана более чем следует. Вы вот, может быть, немного моложе меня, и, вишь, какой молодец, не мне чета!.. А я что! Тряпка тряпкой: и сед, и толст, и некрасив… Вообще, хоть и особа, но особа не особенно-то мудреная…
— Что же вы именно за особа?
— А вы хотите знать? Извольте, я удовлетворю ваше, любопытство. Я — следственный пристав, титулярный советник Гаврила Яковлевич Яковлев, — отвечал вопрошаемый, слегка наклоняя свою стриженую голову. — Не более того.
— Яковлев? — удивился Лубенецкий.
— Яковлев-с, собственной своей персоной, Яковлев-с, как видите, — подхватил толстенький человечек, видимо наслаждаясь впечатлением, которое он произвел на Лубенецкого.
Понаслышке Лубенецкий давно знал Яковлева.
Не раз приходилось Лубенецкому слышать о подвигах этого сыщика, который был грозой для всякого рода преступников. Но Лубенецкий никак не предполагал, что человек, наводивший ужас на самых закоренелых негодяев и убийц, был с виду такой невзрачной и даже такой преглуповатой личностью. Хитрому пану казалось, что такие геройские подвиги, какие совершал Яковлев, должны были и родиться не иначе, как в таком же геройском теле. А тут выходило совсем не то.
Много раз Лубенецкому хотелось даже увидеть Яковлева, этого героя Москвы, но по разным обстоятельствам ему как-то не удавалось это.
Плут по призванию, Лубенецкий хотел сравнить себя с другим таким же плутом, о котором ходила такая громкая и такая лестная молва в народе.
И вот вдруг нежданно-негаданно этот самый плут стоит теперь перед ним и как бы наслаждается его, Лубенецкого, смущением.
В глубине души своей Лубенецкий почувствовал нечто вроде зависти к видимому и неоспоримому превосходству московского сыщика, но тем не менее все-таки с достоинством держал себя перед ним.
— Яковлев?.. — как бы вопрошал он сам себя, — Яковлев?.. Слышал про Яковлева… слышал…
— Даже много раз видел, — произнес Яковлев, посмеиваясь, — и даже много раз меня кофейком своим отличным потчевал.
— И то может быть, — достойно отговаривался Лубенецкий, — у меня посетителей бывает так много, что, право, трудно запомнить всякого.
— А меня бы вам запомнить не мешало, почтеннейший, я человек для вас полезный, весьма даже полезный.
— Уж и полезный!
— Узнаете — оцените.
— Очень было бы приятно…
— Я не в вас… Я даже обиду забываю… Вот какой я человек добрый, не то что вы!.. Впрочем, довольно об этом… Пойдемте, потолкуемте по-дружески кое о чем, пан… Пожалуйте вашу руку.
Почти машинально Лубенецкий протянул ему руку.
Яковлев дружески пожал ее.
Это удивило Лубенецкого, но он промолчал.
— Надеюсь, — промолвил Яковлев, не выпуская руки Лубенецкого, — вы в другой раз из благоразумия не протянете эту руку к моему горлу… Да?
Лубенецкий сделал легкое наклонение головой, явно говорившее, что он сознает свой необдуманный поступок, извиняется, и, в свою очередь, пожал руку Яковлева.
— Вот и прекрасно! — проговорил Яковлев весело. — Я вас понял, и вы меня поняли. Худой мир лучше доброй ссоры. Но позвольте, и я даю вам честное слово, быть с вами честным человеком. Не думайте, чтобы у меня не было своих честных взглядов на дело. Узнаете меня покороче — удостоверитесь. Пойдем-те, однако. Видите, почти уже рассвело, и в кофейне вашей, вероятно, сидят уже ранние посетители. Пойдемте в вашу кофейню.
— Пойдемте, — согласился Лубенецкий.
Новые приятели тронулись.
Так как путь их был недалек, то они вскоре и очутились на Ильинке, перед домом, где находилась кофейня Андреева-Лубенецкого…
Слава Яковлева, как сыщика, прогремела в первой четверти нынешнего столетия по всей России.
Фамилия его была известна старому и малому, и притом в таком роде, что самые капризные и крикливые дети умолкали, если им говорили: «Идет сыщик Яковлев».
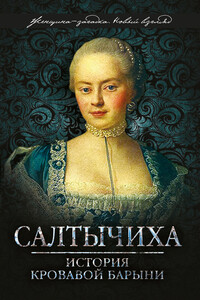
Дарья Салтыкова вошла в историю как одна из самых жестоких убийц, ее прозвище – «Салтычиха» – стало синонимом бесчеловечности, символом жестокости и садизма, скрывающихся за фасадом «золотого века» российского дворянства. Роман «Салтычиха» основан на материалах уголовных хроник XVIII века. Героиней романа является помещица Подольского уезда Московской губернии Дарья Николаевна Салтыкова, известная крайне жестоким обращением с крепостными крестьянами. Следствием по ее делу было установлено, что она замучила насмерть более ста человек.

Современное издание одной из лучших книг о Москве, выпущенной в 1893 г. Полностью она называлась: «Седая старина Москвы. Исторический обзор и полный указатель ее достопамятностей: соборов, монастырей, церквей, стен, дворцов, памятников, общественных зданий, мостов, площадей, улиц, слобод, урочищ, кладбищ, и проч., и проч. С подробным историческим описанием основания Москвы и очерком ее замечательных окрестностей». Несколько параграфов оригинала в электронной версии отсутствуют.
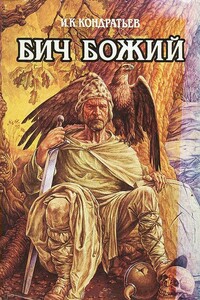
Исторический роман в трех частях из жизни древних славян. Автор исходит из современной ему гипотезы, предложенной И. Ю. Венелиным в 1829 г. и впоследствии поддержанной Д. И. Иловайским, что гунны представляли собой славянское племя и, следовательно, «Бич Божий» Аттила, державший в страхе Восточную и Западную Римские империи, — «русский царь».
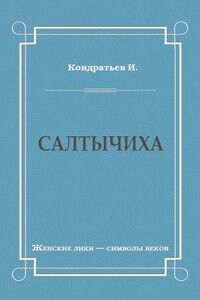
Иван Кузьмич Кондратьев (наст. отчество Казимирович; 1849–1904) – поэт, прозаик, драматург. Родился в с. Коловичи Вилейского уезда в крестьянской семье. Свои стихи, рассказы, романы помещал в «Русской газете», «Новостях дня», в журналах «Московское обозрение», «Спутник», «Россия» и многих других. Отдельными изданиями в Москве выходили пьесы-шутки, драмы из народной жизни, исторические повести, поэмы. В песенный фольклор вошли романс «Эти очи – темны ночи» и другие его песни и романсы. Предполагается, что ему принадлежит исходный текст русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Героиней романа «Салтычиха», публикуемого в этом томе, является помещица Подольского уезда Московской губернии Дарья Николаевна Салтыкова, известная крайне жестоким обращением с крепостными крестьянами.
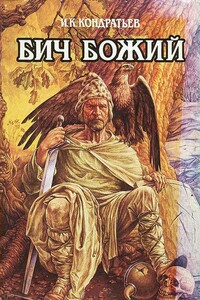
Историческая повесть с мелодраматическим сюжетом из времен войны 1812 года. Многие предсказания и знамения сулили великие потрясения Европе и России в начале XIX века, и прозорливцы делились этим тайным знанием. Sed quos Deus perdere vult dementat…

Иван Кузьмич Кондратьев (наст. отчество Казимирович; 1849–1904) – поэт, прозаик, драматург. Родился в с. Коловичи Вилейского уезда в крестьянской семье. Свои стихи, рассказы, романы помещал в «Русской газете», «Новостях дня», в журналах «Московское обозрение», «Спутник», «Россия» и многих других. Отдельными изданиями в Москве выходили пьесы-шутки, драмы из народной жизни, исторические повести, поэмы. В песенный фольклор вошли романс «Эти очи – темны ночи» и другие песни и романсы Кондратьева. Предполагается, что ему принадлежит исходный текст русской народной песни «По диким степям Забайкалья».В этом томе представлены два произведения Кондратьева.
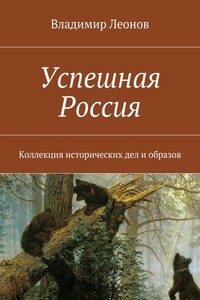
Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.
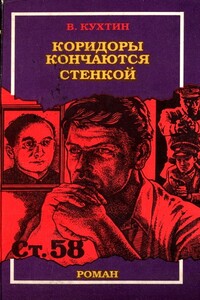
Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.