Дождливое лето - [44]
«В одной из полуразрушенных зал… дворца есть следующая надпись, сделанная, очевидно, недавно и вполне идущая к настоящему положению:
Я ничего этого еще не знаю, покамест брожу с Иваном Федосеевичем под старыми липами. Вдали угадывается река — густая некошеная трава обозначила линию ее низкого берега. Но к реке мы не идем, очень уж там, должно быть, сыро. Мы говорим о том, что еще не сровнялось и ста лет с тех пор, как отменено было в России крепостное право. Я вспоминаю, что двадцать лет тому назад в станице Буденновской мать легендарного маршала рассказывала мне, как девочкой слушала бабкины рассказы про панщину, — это ведь было совсем рядом во времени, ближе, чем для нынешних детей минувшая война. Припоминается мне и то, как Иван Федосеевич, когда однажды зимой мы приехали с ним к его матери, жившей тогда еще в Угожах, рассказывал об одном из памятных событий раннего детства — как они, бывало, всем селом барина поминали. В церковной ограде стояла очередь к сладкой кутье, и какое это было неизъяснимое наслаждение, если удавалось, сменявшись с кем-нибудь из ребят шапкой и обманув этим бдительность ктитора, получить вторую порцию, — впрочем, чаще всего ктитор узнавал хитреца, легонько, но больно стукал его ложкой по лбу.
В ту же зиму я узнал, откуда пошел обычай поминать угожского барина. В воспоминаниях здешнего летописца я прочитал, что крестьяне угожские еще в 1809 году выкупились из крепостной зависимости. Летописец рассказывает, что барин, человек холостой, завещал было вотчину своему племяннику, однако две местные крестьянки, родные сестры и давние господские любовницы, сумели уговорить барина, чтобы он изменил свою волю. Крестьяне переведены были в звание свободных хлебопашцев, но зато были на вечные времена обязаны платить наследникам барина по десяти тысяч рублей ассигнациями ежегодно. Господским любовницам от крестьян установлен был пожизненный пенсион. А барину, в знак благодарности, трижды в год творились заупокойные службы: в день рождения, именин и кончины.
Почему-то в Угожах никогда не вспоминалось обо всем этом. Быть может, потому, что здесь трудно вообразить себе господских любовниц, помогавшего им любимого господского лакея, все перипетии старинной усадебной интриги, от исхода которой зависели судьбы нескольких сотен крестьян. Трудно вообще представить себе столь недавнее все же рабство, когда бываешь в этом большом современном колхозном селе с его Домом культуры, машинно-тракторной станцией, средней школой, тремя магазинами, почтой, медицинским пунктом, детскими яслями…
А вот тут, где какие-то едва уловимые подробности вызвали в воображении картины деревенского быта родовитого русского барства, — здесь я все это вспомнил вдруг, и как-то у меня получилось, что крепостное состояние предков Ивана Федосеевича я соединил не с угожской землей, а со здешней. Вот так и этой своей стороной история простершейся окрест зеленой земли как бы вошла в биографию моего друга.
Так ездим мы весь день. На обратном пути заезжаем еще в колхоз, где работает Флора. Она просила отца взглянуть на овсы, которые, по ее словам, в этом году у нее удались. Овес и впрямь дивно хорош. Когда я смотрю на его летящее золото, на косой, частый ливень длинных и острых зерен, мне становится понятно, откуда это название — «Золотой дождь».
Близко к вечеру мы попадаем наконец в Любогостицы.
Уезжаю я отсюда в сумерки, когда на редких столбах вспыхивает и дрожит в вечернем воздухе неяркий свет электрических ламп.
Дверь у нас двустворчатая, с медной старой ручкой на правой створке. К двери ведут три деревянные ступеньки, на которых в хорошую погоду всегда тесно сидят ребятишки. Берешься за ручку, ребята не встают, а только отворачиваются и еще теснее жмутся друг к другу. Но дверь никак не открыть. Тогда ребята все сразу вскакивают, торопливо подбирают игрушки. Тянешь к себе медленно створку и чувствуешь, как неохотно ползет вверх чугунная гиря, подвешенная к продетой сквозь блок веревке.
Дом, крыльцо, дверь — все серое, особенно в поздних сумерках.
Тем ослепительнее открывшееся вдруг голубое сияние стен и потолка, покрашенных масляной краской. Зеркально блестят красновато-коричневые ступени широкой, некрутой лестницы и уходящий от нее пол. Перила у лестницы такого же коричневого цвета, а точеные балясины — синие и желтые.
— Над лестницей, высоко подняв сильную керосиновую лампу, стоит Наталья Кузьминична. Стены, и пол, и потолок отражают и множат свет лампы.
Неужели я не был здесь только два дня!
Виктор с Натальей Кузьминичной собираются в дальние овраги за хворостом. Виктор договорился с трактористом, который расчищает здесь придорожные канавы, что тот привезет этот хворост на тракторных санях. Тракторист сможет поехать сразу после обеда, поэтому Виктор с Натальей Кузьминичной идут с утра, чтобы успеть нарубить побольше хвороста.

Ефим Дорош около двадцати лет жизни отдал «Деревенскому дневнику», получившему широкую известность среди читателей и высокую оценку нашей критики.Изображение жизни древнего русского города на берегу озера и его окрестных сел, острая современность и глубокое проникновение в историю отечественной культуры, размышления об искусстве — все это, своеобразно соединяясь, составляет удивительную неповторимость этой книги.Отдельные ее части в разное время выходили в свет в нашем издательстве, но объединенные вместе под одной обложкой они собраны впервые в предлагаемом читателю сборнике.

Ефим Дорош около двадцати лет жизни отдал «Деревенскому дневнику», получившему широкую известность среди читателей и высокую оценку нашей критики.Изображение жизни древнего русского города на берегу озера и его окрестных сел, острая сов-ременность и глубокое проникновение в историю отечественной культуры, размышления об искусстве — все это, своеобразно соединяясь, составляет удивительную неповторимость этой книги.Отдельные ее части в разное время выходили в свет в нашем издательстве, но объединенные вместе под одной обложкой они собраны впервые в предлагаемом читателю сборнике.
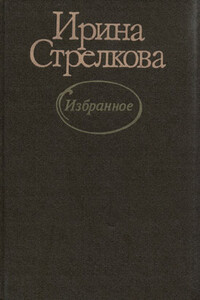
«К концу апреля в воздухе, на смену весенней животворной влажности, появилась раздражающая пыльная сухость, першило в горле, дыхание укорачивалось, и лезли в голову тревожные мысли, хотя врачи настраивали Борисова оптимистически: «Пожалуй, удастся обойтись без оперативного вмешательства…».

«Смерть Сталина не внесла каких-нибудь новых надежд в загрубелые сердца заключенных, не подстегнула работавшие на износ моторы, уставшие толкать сгустившуюся кровь по суженным, жестким сосудам…».

Валентин Петрович Катаев (1897—1986) – русский советский писатель, драматург, поэт. Признанный классик современной отечественной литературы. В его писательском багаже произведения самых различных жанров – от прекрасных и мудрых детских сказок до мемуаров и литературоведческих статей. Особенную популярность среди российских читателей завоевали произведения В. П. Катаева для детей. Написанная в годы войны повесть «Сын полка» получила Сталинскую премию. Многие его произведения были экранизированы и стали классикой отечественного киноискусства.

Книга писателя-сибиряка Льва Черепанова рассказывает об одном экспериментальном рейсе рыболовецкого экипажа от Находки до прибрежий Аляски.Роман привлекает жизненно правдивым материалом, остротой поставленных проблем.

