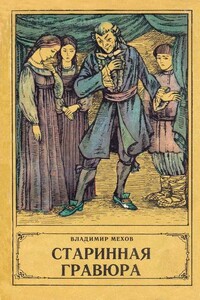Дождаться утра - [126]
— Вы знаете, ребята, что именно к этим берегам на своих кораблях ходили аргонавты за золотым руном?
— Они ходили южнее, — невозмутимо заметил Андрей. — Колхида была примерно на территории нынешней Абхазии.
— А что такое руно? — спросила Юля.
— Руно — это овечья шерсть, — начал объяснять я. — А золотой ее называли потому, что она была высокого качества и, может быть, даже золотистого цвета. А вообще это легенда. Очень красивая легенда. Ты узнаешь о ней в школе.
— И совсем это не легенда, — возразил Андрей. — И аргонавты ходили в Колхиду не за шерстью, а за золотом. Я читал недавно в журнале. Один ученый, кажется из Грузии, установил это. В древней Колхиде была река, а на берегах ее много золота. И промывали это золото тогда таким способом. Песок сыпали на шкуру барана и промывали ее водой, а в шерсти застревали крупинки золота, поэтому ее и называли золотым руном.
— Вы смотрите, ребята, красота какая! — показал я на море, когда из-за гор на его сонную зыбь брызнули лучи солнца. — Посмотрите, какая красота!
Андрей как можно равнодушнее глянул в окно и сделал нарочито кислую гримасу.
Леший его знает, откуда это у них?! Откуда этот скепсис? Может, я слишком опекаю своих детей? Наглухо отгородил их от житейских забот о хлебе насущном, и они не знают истинной цены человеческого труда, подлинной меры чувств, не улавливают всех запахов жизни? Мысли о сегодняшних мальчишках, отцовские тревоги опять возвращают меня к дням юности.
Не знаю, смогут ли испытать мои дети радость, какую пережил я в их годы? Она в моей памяти осталась как особое, ни с чем не сравнимое чувство. Я не хочу этим сказать, что позже не было большей радости или чувства сильнее. Было. А вот такой звонкой, светлой, беззаботной и, как летнее утро, чистой не было. Видно, правду говорят, каждому времени — свои песни.
В мелькнувших днях и мгновеньях юности мне больше всего жалко моей детской наивности, этой родниковой чистоты взгляда на вещи и людей, от которых при воспоминании и сейчас теплеет на душе.
Это чувство я пережил в ноябрьский день сорок третьего, когда председатель колхоза, наш дорогой Дед, устроил для бригады обещанный Праздник урожая. И хотя был осенний, дождливый, холодный день, запомнился он мне как светлый и теплый. Даже монотонный дождь был теплый, а низкое, хмурое небо, казалось, улыбалось разводьями туч.
Наш бригадный полевой год закончился. И хотя еще продолжали пахать зябь (а заканчивали мы ее обычно уже по замерзшей земле; так было всю войну, да и после войны!), все знали — год позади. Колхоз выдал нам аванс по тридцать граммов проса на трудодень. На свои пятьсот сорок трудодней я получил семьдесят килограммов и двести граммов зерна.
— Если истолочь все просо в ступе, то выйдет килограммов пятьдесят пшена, — рассуждала мать. И дальше вела расчет уже не в килограммах, а в стаканах — базарной мере военного времени. — Будет стаканов двести пятьдесят, а то и больше. Если базарных, то и все триста.
— Будем считать настоящих, — вмешался я в подсчеты, — пять стаканов в килограмме — это двести пятьдесят. По два стакана в день на каждого надо?
— Надо… — растерянно ответила мать, видно подсчитав уже все до конца.
— А у нас еще тыква есть, — попытался ободрить я ее. — Кашу можно с тыквой варить.
— Конечно… У нас семь тыкв, да еще те две, маленькие…
— Потом отруби, — поспешил напомнить я, — они тоже в дело. А их пуд добрый будет.
— Немного есть соленых помидоров, огурцов, — вздохнула мать. — Вот картошкой не разжились…
Весной во дворе того разбитого дома, где мы жили, мать сажала овощи, семена которых достала. У нас росли помидоры, огурцы, капуста, свекла, даже тыквы, а картофеля не было. Весной сорок третьего во всем Сталинграде и близлежащих хуторах его нельзя было найти и на семена.
…Как ни считали, как ни рядили, а заработанного мною зерна еле хватало до февраля. А что тогда?
— Ничего. Как всем, так и нам, — ответила мать моим мыслям. — Вам, трактористам, хоть по стольку дали, а другие и этого не получили. — И опять начинала успокаивать и меня и себя: — Председатель говорит, ссуда колхозу должна быть. Раз хлеб государству колхоз сдал — значит, выдадут.
Забегая вперед, скажу — ссуду колхоз получил лишь весной сорок четвертого, когда бригада выехала в поле. Это было зерно на семена, а уж из него мы выкраивали себе на бригадную кашу.
А военная зима сорок третьего — сорок четвертого года была в два раза голоднее, чем в то время, когда в Сталинграде шли бои. По крайней мере, для нашей семьи. В ту осадную осень и зиму мы кормились у солдат. В армейской кухне всегда находился для нас, пацанов, котелок супа или каши. Да и мать, глядишь, постирает военным бельишко, а они дадут ей то буханку хлеба, то немного сахару или концентратов. А в эту зиму военных почти не было в Сталинграде. Им просто негде было жить, и нам приходилось ой как трудно!
Праздник наш начался в середине дня. Когда вошли в правление колхоза, зарябило в глазах. Накрытые столы пылали винегретами.
Военный винегрет — удивительное кушанье. Его готовили из всех овощей, какие только были в доме: из картошки, капусты, огурцов, помидоров, лука… Всю эту овощную палитру венчала вареная свекла.

Известный прозаик и журналист рассказывает о встречах с политиками от Хрущева и Маленкова до Горбачева и Шеварнадзе, поэтах Твардовским, Симоновым.

Роман состоит из четырех повестей, сюжетно самостоятельных, но объединенных рядом общих персонажей, общей внутренней темой. В произведении действуют люди разных профессий и возрастов, и все они находятся в духовной атмосфере, проникнутой идеологией рабочего класса. Творческая удача автора — образ старого рабочего Ивана Митрошина. Жизнь и поступки всех других героев автор оценивает высокими моральными критериями Митрошина, его идейной убежденностью, его поступками.

Отряд красноармейцев объезжает ближайшие от Знаменки села, вылавливая участников белогвардейского мятежа. Случайно попавшая в руки командира отряда Головина записка, указывает место, где скрывается Степан Золотарев, известный своей жестокостью главарь белых…
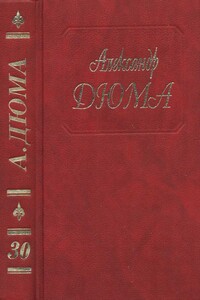
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
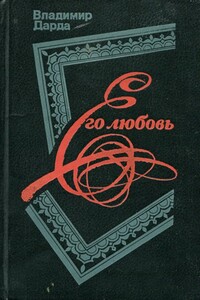
Украинский прозаик Владимир Дарда — автор нескольких книг. «Его любовь» — первая книга писателя, выходящая в переводе на русский язык. В нее вошли повести «Глубины сердца», «Грустные метаморфозы», «Теща» — о наших современниках, о судьбах молодой семьи; «Возвращение» — о мужестве советских людей, попавших в фашистский концлагерь; «Его любовь» — о великом Кобзаре Тарасе Григорьевиче Шевченко.
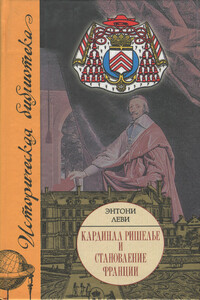
Подробная и вместе с тем увлекательная книга посвящена знаменитому кардиналу Ришелье, религиозному и политическому деятелю, фактическому главе Франции в период правления короля Людовика XIII. Наделенный железной волей и холодным острым умом, Ришелье сначала завоевал доверие королевы-матери Марии Медичи, затем в 1622 году стал кардиналом, а к 1624 году — первым министром короля Людовика XIII. Все свои усилия он направил на воспитание единой французской нации и на стяжание власти и богатства для себя самого. Энтони Леви — ведущий специалист в области французской литературы и культуры и редактор авторитетного двухтомного издания «Guide to French Literature», а также множества научных книг и статей.
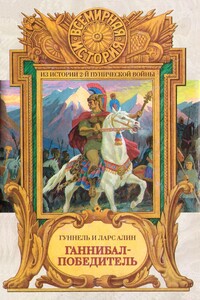
Роман шведских писателей Гуннель и Ларса Алин посвящён выдающемуся полководцу античности Ганнибалу. Рассказ ведётся от лица летописца-поэта, сопровождавшего Ганнибала в его походе из Испании в Италию через Пиренеи в 218 г. н. э. во время Второй Пунической войны. И хотя хронологически действие ограничено рамками этого периода войны, в романе говорится и о многих других событиях тех лет.