Достоевский и евреи - [20]
У нас — русских, две родины: наша Русь и Европа, даже и в том случае, если мы называемся славянофилами, — (пусть они на меня за это не сердятся). Против этого спорить не нужно. Величайшее из величайших назначений, уже сознанных Русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общеслужение человечеству, — не России только, не общеславянству только, но всечеловечеству. Подумайте и вы согласитесь [ДФМ-ПСС. Т. 23. С. 30].
Историко-критический анализ такого рода представлений, ставшими со временем архетипами русской ментальности, см. в книге [ДОЛИНИН]. Сам Достоевский четкого определения понятия «русской идеи» не дал, ограничившись общими рассуждениями о том, что это оно в себя включает. Существует мнение, что якобы:
У него появилась надежда, что в результате отмены крепостного права произойдет «слитие образованности и ее представителей с началом народным и приобщение всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни, — народа, отшатнувшегося от Петровской реформы еще 170 лет назад и с тех пор разъединенного с сословием образованным, жившего отдельно, своей собственной, особенной и самостоятельной жизнью».
Как видно из приведенной цитаты, «народ» не входит в «общество», и целью исторического процесса является их воссоединение. Это воссоединение произойдет, уверен Достоевский, «мирно и согласно», в отличие от Европы, где царствует враждебность между сословиями.
<…> «Русская идея» Достоевского, таким образом, действительно есть идея о будущих русских задачах. Она основана отчасти на опыте прошлого (неудавшейся европеизации) и предполагает, поэтому, «возвращение к почве». Это возвращение, однако, является только условием для осуществления «русской идеи», но не самой «русской идеей». Отсюда следует, что, хотя опыт прошлого важен для задачи на будущее (как «урок»), они далеко не идентичны. Ожидания Достоевского основаны скорее на креативном переосмыслении опытов бывших «встреч с Европой». Между тем он сам может лишь «предугадывать с благоговением», что будет впереди [МЬЁР С. 405–406].
После кончины писателя Вл. Соловьев, С. Булгаков, Н. Бердяев и др. русские философы ХХ в., развивая эту концепцию Достоевского, давали ее более или менее развернутые определения.
У Достоевского нигде и никогда мы не встретим отрицания высших достижений западной культуры. Его любовь, даже преклонение перед вершинными явлениями европейского духа — факт, не требующий доказательств. В готовности русского человека стать «братом всех людей» он усматривал великую надежду: возможность породнения России и Запада. Он верит в кровность соединяющих их духовных уз. «Русские европейцы» (выражение в устах Достоевского бранное) — это как раз псевдоевропейцы, люди, усвоившие лишь наружные формы европейской культуры и гордящиеся именно этими внешними знаками своего культурного превосходства. Он обвиняет русский либерализм в поклонении западной цивилизации, но не культуре. Он не может согласиться с тем, чтобы видимость ставилась выше сути. Он далеко не всегда прав в этих своих обвинениях. Русское западничество — серьёзное, позитивное и, что важнее всего, исторически неизбежное явление, находящееся на магистральной линии отечественного развития. Российский либерализм западнического толка обладает бесспорными и весьма ощутимыми культурно-историческими заслугами. Не только «энциклопедия Брокгауза и Ефрона», но и весь комплекс достижений русской науки и просвещения второй половины века были бы немыслимы при самозамыкании и самоизоляции. Кроме того, политическая программа русского либерализма содержала такие моменты, которые в условиях безраздельного господства «непросвещённого абсолютизма» носили хотя и ограниченный, но объективно прогрессивный характер. Эволюция самодержавной монархии в сторону представительного правления с определёнными конституционными гарантиями — такой процесс, который, начнись он на самом деле, мог бы во многом изменить дальнейший ход судеб. Трагедия российского либерализма состояла в том, что он полагался только на добрую волю власть имущих и исключал из своих политических расчётов потенциальные возможности «низов». За это упрекали либералов русские революционеры. Но как ни парадоксально, именно за то же упрекает их и Достоевский (хотя он, разумеется, различает в народе совсем иную, нежели левые радикалы, историческую потенцию). Народ «не видит, что сохранять» — эти слова, очевидно, не вызвали бы возражений в стане русской революции. «Уничтожьте ка формулу администрации» — именно всю «формулу», а не те или иные её части. Такое уничтожение (равносильное на деле полному слому существующей государственной машины) составляло даже не ближайшую, а отдалённейшую цель отечественных социалистов. Его миросозерцание противостоит «классическому» славянофильству не в меньшей мере, чем «классическому» западничеству. Русский либерализм западнического толка не имел шансов выжить в стране таких непримиримых полярностей. С одной стороны, он подвергался тотальной критике за свою половинчатость и непоследовательность, за недостаточный политический радикализм, а с другой — язвительному осмеянию за преувеличенный интерес именно к политической стороне дела, за игнорирование максималистских (столь трудно осуществимых на практике) нравственных целей. В России либеральная идея была обречена: она пала под этими двойными ударами. Какую же альтернативу предлагает сам Достоевский? На этот вопрос невозможно ответить однозначно. Ибо, жадно интересующийся политикой, он мыслит категориями вовсе не политическими. Его «программа» не вписывается ни в одну из существующих идеологических моделей. Он знает одно: человеческое (истинно человеческое) и общественное, сверхличное в своей сокровенной сути должны совпадать [ВОЛГИН (II). С. 482–484].

Настоящая книга относится к жанру документальной беллетристики и повествует о жизни советского художественного андеграунда 60-х – 80-х годов XX в. Ее персонажи – художники и поэты-нонконформисты, являвшиеся, по мнению партийных идеологов, «выразителями буржуазной эстетики и морали». На страницах книги читатель встретит немало имен бывших «гениев андеграунда». Из образов этих людей, их историй и элементов своей собственной биографии автор соткал яркое мозаичное полотно того «чудного» времени, коим являлись последние три десятилетия существования СССР, страны несбыточных надежд. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
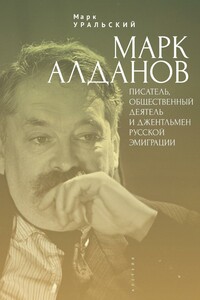
Вниманию читателя предлагается первое подробное жизнеописание Марка Алданова – самого популярного писателя русского Зарубежья, видного общественно-политического деятеля эмиграции «первой волны». Беллетристика Алданова – вершина русского историософского романа ХХ века, а его жизнь – редкий пример духовного благородства, принципиальности и свободомыслия. Книга написана на основании большого числа документальных источников, в том числе ранее неизвестных архивных материалов. Помимо сведений, касающихся непосредственно биографии Алданова, в ней обсуждаются основные мировоззренческие представления Алданова-мыслителя, приводятся систематизированные сведения о рецепции образа писателя его современниками.
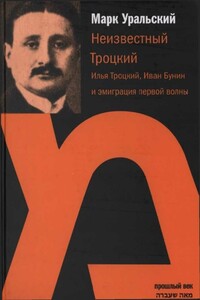
Марк Уральский — автор большого числа научно-публицистических работ и документальной прозы. Его новая книга посвящена истории жизни и литературно-общественной деятельности Ильи Марковича Троцкого (1879, Ромны — 1969, Нью-Йорк) — журналиста-«русскословца», затем эмигранта, активного деятеля ОРТ, чья личность в силу «политической неблагозвучности» фамилии долгое время оставалась в тени забвения. Между тем он является инициатором кампании за присуждение Ивану Бунину Нобелевской премии по литературе, автором многочисленных статей, представляющих сегодня ценнейшее собрание документов по истории Серебряного века и русской эмиграции «первой волны».

В книге, посвященной теме взаимоотношений Антона Чехова с евреями, его биография впервые представлена в контексте русско-еврейских культурных связей второй половины XIX — начала ХХ в. Показано, что писатель, как никто другой из классиков русской литературы XIX в., с ранних лет находился в еврейском окружении. При этом его позиция в отношении активного участия евреев в русской культурно-общественной жизни носила сложный, изменчивый характер. Тем не менее, Чехов всегда дистанцировался от любых публичных проявлений ксенофобии, в т. ч.

Настоящая книга писателя-документалиста Марка Уральского является завершающей в ряду его публикаций, касающихся личных и деловых связей русских писателей-классиков середины XIX – начала XX в. с евреями. На основе большого корпуса документальных и научных материалов дан всесторонний анализ позиции, которую Иван Сергеевич Тургенев занимал в национальном вопросе, получившем особую актуальность в Европе, начиная с первой трети XIX в. и, в частности, в еврейской проблематике. И. С. Тургенев, как никто другой из знаменитых писателей его времени, имел обширные личные контакты с российскими и западноевропейскими эмансипированными евреями из числа литераторов, издателей, музыкантов и художников.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Книга доктора филологических наук профессора И. К. Кузьмичева представляет собой опыт разностороннего изучения знаменитого произведения М. Горького — пьесы «На дне», более ста лет вызывающего споры у нас в стране и за рубежом. Автор стремится проследить судьбу пьесы в жизни, на сцене и в критике на протяжении всей её истории, начиная с 1902 года, а также ответить на вопрос, в чем её актуальность для нашего времени.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.

«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.

Появлению статьи 1845 г. предшествовала краткая заметка В.Г. Белинского в отделе библиографии кн. 8 «Отечественных записок» о выходе т. III издания. В ней между прочим говорилось: «Какая книга! Толстая, увесистая, с портретами, с картинками, пятнадцать стихотворений, восемь статей в прозе, огромная драма в стихах! О такой книге – или надо говорить все, или не надо ничего говорить». Далее давалась следующая ироническая характеристика тома: «Эта книга так наивно, так добродушно, сама того не зная, выражает собою русскую литературу, впрочем не совсем современную, а особливо русскую книжную торговлю».