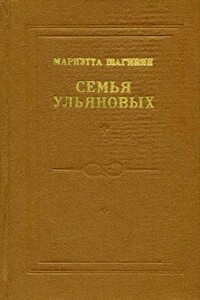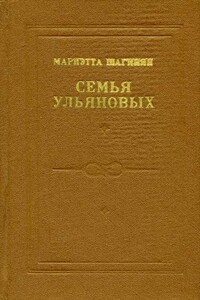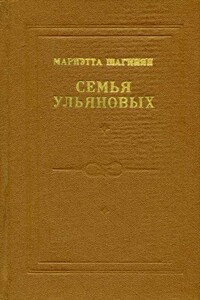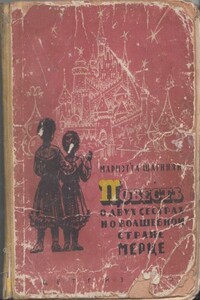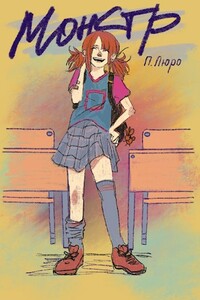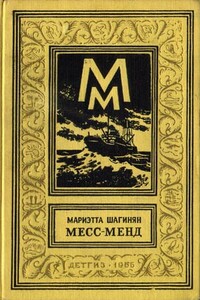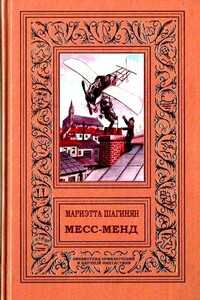ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Человек, на чьи молитвы отзываются небеса
Сторож Крац, получивший сторожевой пункт по правую сторону Гаммелыитадтской пустоши, был человек точный, аккуратный, исправный, непьющий, некурящий, холостой, храбрый, как лев, и уважающий всякое начальство вплоть до печатного расписания, поездов. Он был бы идеалом железнодорожного сторожа, если б не маленькая особенность, приключившаяся с ним, по мнению докторов (всегда прибегающих к этому число топографическому диагнозу, когда анатомическая и физиологическая природа человека оказывается в полном порядке), на нервной ночйе. Эта особенность заключалась б невыносимой, всесокрушающей, последовательной и непрерывной, вроде семи дней недели, не успевших дойти до воскресенья и опять начинающих всю музыку с понедельника, — страсти к чесанию. Начнет, например, сторож Крац за ухом, совсем даже не думая, что дело это чревато последствиями, как не думает о последствиях какой-нибудь молодчик, говоря незамужней. женщине «здравствуйте». Глядь, — пальцы его сами собой перешли из-под уха за воротник, из-за воротника — подмышку, из подмышки — за спину, из-за спины — и пошло, и пошло, а как у сторожа Краца перевалит наконец к воскресенью, то есть к пяткам, и он вздохнет с облегчением, вдруг с неистовой силой обе руки сами собой поднимутся к уху и начнут там скрести и дергать, доводя его до полного изнеможения.
Эта роковая особенность сводила на нет все совершенства сторожа Краца, причиняя ему в домашней жизни множество неприятностей. Стоило ему, например, поставить перед собой суповую миску, как топографическая Неприятность лишала его рабочих рук, и, будучи от природы человеком с воображением, он мог наблюдать с минуты на минуту охлаждение, оцепенение и дезорганизацию собственной похлебки. Но, когда в духов день, проходя в брод речку до служебным надобностям, сторож Крац уронил в нее кошелек и, прежде чем успел нагнуться, пальцы его полезли прямехонько под шапку, — дело приняло в высшей степени драматический оборот.
Речка со всех ног неслась к мельничному жернову. Кошелек! с минуту полежал на камнях! в Надежде, что его поднимут. Но, когда этого не случилось, он махнул хвостиком, тихо перевернулся и пошел ко дну, — ни дать, ни взять, как какаянибудь вобла. Сторож Крац следил за ним отчаянными глазами.
— Десять марок восемнадцать пфеннигов да хорошая брючная пуговица! — бормотал он в бешенстве. — Если считать что для такого бедного человека, как я, каждая марка все равно, что для богача тысяча, то клади для крупного Счета! десять тысяч марок. Доннёрветтер, тысяча брючных пуговиц и десять тысяч марок! Понеси я их в банк, разумеется, не в Рейхсбанк, а в Хандельсбанк, у меня бы через пятнадцать лет, через пятнадцать лет, через пятнадцать лет…
Замедление мыслей Краца было вызвано острым припадком топографии между пятым и четвертым ребром, а когда местность пошла на пониженые, Крац издал бешеное проклятье: кошелек унесся в водоворот!
Потеря огромного состояния до такой степени потрясла несчастного сторожа. что он бормотал об этом до глубокой ночи, бормотал, зажигая зеленый фонарь и выходя навстречу константинопольскому экспрессу, бормотал, стоя на ночном ветру, бормотал, когда высоко вверху раздалось знакомое гуденье, дрожанье и колыханье…
— И как подумать, что, если б был у меня хороший пес, он ровнешенько в одну секунду принес бы его в зубах. Небеса! Десять тысяч сто восемьдесят марок, положенных в Хандельсбанк! Эх, будь у меня пес, будь только у меня хоррр…
— Хоррррр!
Ужасная, ревущая, волосатая масса, страшная, как сто тысяч дьяволов, увеличенных в пропорцию с какой возрос капитал сторожа Краца, со всей силой обрушилась на него сверху, облапила его и сунула ему за воротишь такой огненный шершавый язык, что несчастный немедленно потерял сознание.
Когда он пришел в себя, вокруг была полная тишина. Константинопольский экспресс промчался. Круглый электрический шар разбрасывал волны света — по страшной Гаммельштадтской пустоши. Сторож Крац сидел па болоте, обеими руками держа огромного тощего пса, косившего на него два красных глаза и дышавшего как паровой котел.
Сторож Крац дрожащей рукой провел по лбу. Не было никаких сомнений!… Небеса существовали, и небеса услышали его молитву. Отныне Крац мог принять полное участие в воскресных беседах, устраивавшихся пастором Питером Вурфом для железнодорожных рабочих, — и мог даже самолично сделать доклад.
Он доложил руку на мохнатую голову пса, кинул взгляд на небо, вздохнул, увидел там что-то похожее на голубя, точь в точь такого, какие выпекаются в кондитерских, с изюмом посредине, и дрожащим голосом произнес.:
— Отныне и присно называю тебя «Небодар». Служи мне, как я сам служил отечеству и расписанию двадцать три года, не считая военного фронта, не женись и носи поноску, даже если тебе приспичит почесаться где-нибудь под хвостом!