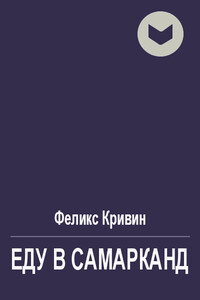Дорога в Ауровиль - [2]
В связи с необходимостью быстрого построения капитализма про музыку на некоторое время вообще забыли. Многие музыканты рванули на Запад, некоторые сменили профессию, кто-то затаился.
Решив снова заняться литературой, я написал сценарий и послал его на конкурс сценаристов «Хартли Меррил Прайз». Совершенно неожиданно для себя, я оказался в числе десяти номинантов и был приглашен в Дом кино на торжественное вручение премии. Премией была, во-первых, денежная сумма в десять тысяч долларов (большие деньги по тем временам), а во-вторых, поездка на месяц в Америку в школу Роберта Редфорда. Я сидел в первом ряду среди известных на всю страну сценаристов и писателей в окружении полного зала киношной богемы, держа на коленях выданный организаторами здоровенный букет белых роз. Сама премия мне не досталась – впрочем, думаю, это было бы уже слишком.
Затем население опять вспомнило о музыке – правда, несколько вяло, без былого энтузиазма. Музыканты потянулись на гастроли, появилась возможность что-то заработать. Мы записывали альбомы, играли концерты, но со всех сторон все больше и больше, размножаясь, как тараканы в грязной кухне, наступали «фанерные» попсовики. Отечественный рок-н-ролл постепенно тоже деградировал, обретя почетное звание «говнорок», и на том и успокоился. Отдельные попытки создать что-то неглупое и интересное иногда еще предпринимаются, но за тотальным торжеством пошлятины разглядеть их не представляется возможным.
Помню, на дворе стоял тысяча девятьсот девяносто третий год. Я работал в ансамбле композитора и гитариста Константина Никольского. Впрочем, слово «работал» для того времени не очень подходит. На самом деле мы перебивались, как могли, от одного случайного концерта до другого. Редкие гастроли проходили в экстремальных условиях. Было в порядке вещей, когда после выступления администраторы вдруг исчезали в неизвестном направлении вместе со всеми деньгами, а иногда и с билетами на поезд или самолет. Не единожды мы выбирались из разных барнаулов и чимкентов на перекладных, благодаря лишь жалости проводниц или помощи местных жителей. Как-то летели в багажном отделении самолета. Один раз, брошенные в пустующем загородном доме отдыха под Днепропетровском, чудом поймали такси на трассе, чтобы доехать до вокзала. Нас было восемь человек вместе с сумками, инструментами, электроорганом и ударной установкой. Каким образом мы умудрились залезть со всем этим в обычную «Волгу» – для меня до сих пор загадка.
У всех были маленькие дети, поэтому каждая следующая работа воспринималась как манна небесная, несмотря на постоянную угрозу быть обманутыми.
Выступления проводились порой в совершенно неожиданных местах – например, в цирках или школьных спортзалах. Несколько раз играли на свадьбах у бандитов.
В тот раз нам предстоял концерт в Московском планетарии.
После настройки мы прошлись по холлу. Планетарий произвел интересное, но ветхое впечатления. Глобусы небесных тел стояли пыльные, и даже метеориты имели какой-то подержанный вид.
Затем мы вернулись в небольшую комнату, выполнявшую функцию гримерки. До начала концерта оставалось совсем немного времени, когда распахнулась дверь, и в комнату ворвался Редькин. Это был наш администратор – человек выдающихся способностей. Обладал, например, потрясающим даром убеждения.
Как-то уезжали мы на гастроли. Сели в поезд. Поехали. Никольский начал рассказывать о концерте Билли Джоэла, на котором был вчера. В купе зашел Редькин. С минуту послушал. Потом сделал круглые глаза и воскликнул:
– Какой концерт? Не было же вчера концерта! Отменили его!
– Как не было? – растерялся Костя.
– Так не было, – уверенно сказал Редькин. – У него аппаратура не пришла.
Мы с сомнением посмотрели на Никольского. Он потом говорил, что в тот момент в голове у него промелькнула мысль: «А может, действительно никакого концерта не было?»
В общем, уникальный человек был Саша Редькин. Правда, использовал свои способности далеко не всегда там, где нужно. Идея провести концерт в планетарии, думаю, принадлежала ему.
Влетев в гримерку, он воскликнул:
– Народу – полный зал!
– Вот видишь! – сказал Никольский. – А говорите, музыка никому не нужна. На самом деле все наоборот. Работать просто надо хорошо. А не отговорки придумывать – почему концертов нет.
Редькин ощетинил усы.
– Костя, родной, ты не понимаешь! Здесь же планетарий! Сюда ходит тонкая интеллектуальная прослойка! Таких мест в Москве – раз, два и обчелся.
Зал был действительно полон. Мы сыграли несколько песен. Получили хорошую порцию аплодисментов. Затем приступили к самой известной. Я начал вступление. Никольский спел первую фразу: «Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант…»
В этот момент в зале быстро и плавно погас свет. На потолке зажглись звезды.
«…Расправил нервною рукой на шее черный бант…» На второй фразе взошла Луна.
Клавиш не видно было вообще. Сидевшие в зале люди тоже растворились в темноте. Было ощущение, что играем мы ночью где-то в чистом поле, неизвестно для кого. Ускоренные движения небесных сфер создавали ощущение полного бреда. Организм вошел в ступор, и только пальцы шевелились как-то сами по себе, без участия мозга.
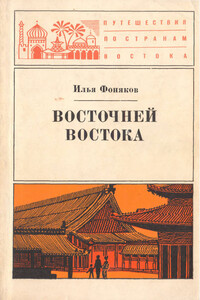
Книга И. Фонякова — плод его полугодового пребывания и Японии в качестве стипендиата ЮНЕСКО. Отдельные главы книги посвящены встречам с писателями и поэтами, экономике, быту, молодежному движению, газетной и рекламной «кухне» одной из ведущих стран капиталистического мира.
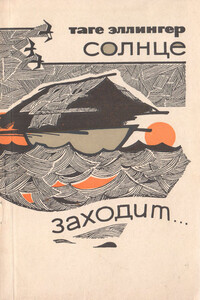
Предлагаемая читателю книга датского ученого Таге Эллингера «Солнце заходит…» не является научным исследованием. Это скорее записки о том, что автор увидел, услышал и прочувствовал во время десятилетнего пребывания на Филиппинах, где он «оставил свое сердце».
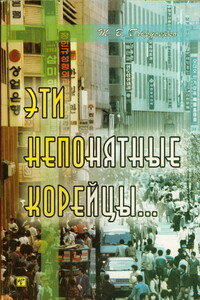
Книга рассказывает об интересных сторонах жизни Южной Кореи, о своеобразном менталитете, культуре и традициях корейцев. Автор, востоковед и журналист, долго работавшая в Сеуле, рассматривает обычно озадачивающие иностранцев разнообразные «корейские парадоксы», опираясь в своем анализе на корееведческие знания, личный опыт и здравый смысл. Книга предназначена для всех, кто интересуется корейской культурой и современной жизнью Кореи.
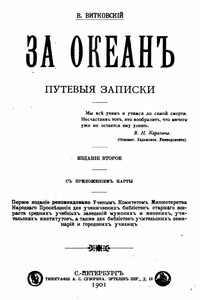
Летом 1892 года мне удалось осуществить давнишнее желание побывать в Англии и в Соединенных Штатах Северной Америки. Кроме простого любопытства, я имел и особую цель: лично ознакомиться с состоянием астрономии и геодезии в упомянутых странах и повидаться там с выдающимся представителями этих наук. Что же касается «Путевых записок», которые я вел в течение моего четырехмесячного путешествия, то я вовсе не имел намерения их издавать, полагая, что поездка, подобная моей, представляет в настоящее время самое обыденное явление.