Дорога неровная - [7]
Что касается беспоповщины, то и она раскололась на новые течения. На северо-западе была федосеевщина, на Беломорье главенствовали обычаи Выговской общины, но самые ярые — филипповцы, которые продолжали проповедовать самосожжение как знак протеста «новой вере», давным-давно прочно утвердившейся на Руси.
В деревне, куда попала Валентина, слыхом не слыхали о всяких там течениях и прочих тонкостях многовекового раскола веры, сохранив в памяти два имени — Аввакум, которое почитали, благоговели перед ним, и Никон, которое яро ненавидели, хотя эти люди давно уже стали пылью веков, да и время стало иное, страшное и прекрасное по-своему, каким оно бывает всегда для определенного поколения.
Там до сих пор существовала отчужденность друг от друга, потому, едва смеркалось, наглухо запирались селяне в своих избах, как в крепости. И никому не было дела до чьих-то переживаний. Всяк жил своей замкнутой жизнью. Даже колодец у каждого хозяина свой, отстроенный аккуратным домиком, впрочем, все в деревне делалось аккуратно и прочно. Стоят дощатые шалашики по огородам, иные вынесены прямо на улицу за изгородь. Кто беднее соседей живет — шалашик плетеный. Но каждый колодец закрыт на замок.
По причине лютой кержацкой собственности и Федору тоже пришлось рыть свой колодец. Деду Мирону, деревенскому пастуху, колодец был без надобности, его, также старовера, в любом доме поили и кормили, лишь бы приходил со своей посудиной. Но молодые Агалаковы числились в богоотступниках, якшались с никонианской церковью, в деревне же молились по домам, и роднил их лишь особый язык, присущий всем вятичам со всеми их «щё, пощё», с вечной путаницей «ч» и «ц». Но Федор все же свой, староверской крови, а Валентину, бойкую, словоохотливую, в деревне открыто недолюбливали. Но в то же время каждый из деревенских бородачей втайне думал, что неплохо иметь женой такую веселую, красивую бабу, а главное — работящую.
Одна только бабка Авдотья, теща Никодима, привечала Валентину. К ней-то, восьмидесятилетней старухе, и бегала молодая женщина со своими бедами и радостями. Чем уж ей приглянулась Валентина — неясно, а только Авдотья всегда защищала ее перед односельчанами.
Авдотья жила одна, уступив дом дочери. Никодим, зять, приспособил ей для жилья баньку, выстроенную на задах усадьбы, в огороде, упиравшемся прямо в берег речушки. В семьях староверов старики почитались, любое стариковское желание — закон для молодых. И редкий человек осмеливался переступить этот закон. Хотел Никодим поставить теще небольшой флигелек, пусть, дескать, старуха доживает свой век в приличном помещении, но Авдотья сказала, что в бане, соответственно мнения деревенских баб о ней, жить гораздо сподручнее. Никодим вздохнул и отступился, чем, дескать, дитя бы не тешилось, ведь стар да млад — все едино.
Банька топилась по-белому, была срублена добротно, с предбанником, и там всегда было тепло и сухо, уютно от пахучих пучков сухих трав, развешанных по стенам — Авдотья знахарила. А мылись все в Павловой бане, тоже аккуратно сработанной, стоявшей рядом с Никодимовой: подворья братьев разделял лишь прочный черемуховый плетень. Почему старуха жила в баньке, а не в одной из светлиц своего просторного дома, никто не знал, даже дочь. Спросила как-то Валентина об этом Авдотью, но та ответила, что с молодыми ей жить не с руки.
Старуха играла с Павлушкой, когда вошла Валентина.
— Доброго здоровьича, баушка.
Авдотья, совершенно седая, иссохшая, с лицом, похожим на древесную кору, маленькая и юркая, как ящерка, улыбнулась в ответ:
— День добрый, девонька…
Павлушка, узнав мать, потянулась к ней полными ручонками, засверкала голубыми подыниногинскими глазенками. Она улыбалась и что-то лепетала.
— Хорошая у тебя дочка, вишь-ка, узнала мамку. Ну, вы хороводьтесь, а я чайку спроворю. Эх, — старуха бойко притопнула ногой и пропела: — Челды-елды- раскочелды, расчелды-колды-елды! Пил бы, ел бы, спал бы мягко, не работал неколды!
Авдотья вышла во двор и вернулась с ворохом лучины, которую ей всегда Никодим колол про запас и складывал под навесиком у входа в баню. Старуха говорила без умолку, видно, рада была приходу Валентины: в Авдотьиной баньке, кроме родни, редко бывали гости.
Деревенские боялись ее и без дела не заходили. Бабы льстиво задабривали, звали бабушкой Авдотьей Никитишной, а за глаза крестили Лешачихой, злыдней и колдовкой, и еще Бог весть как. «Злыдня…» Да какая же Авдотья злыдня? Маленькая, с крючковатым носом, идет — от ветра качается. Мухи — и то Авдотья не обидит. «Злыдня…» — усмехается Валентина. Скажут же люди. Да за всю свою жизнь Авдотья людям одно только добро и делала.
Старуха-знахарка никогда не болела. До первого снега и с первых проталинок ходила она босиком. Ноги у нее тоже были маленькие, все синие от разбухших вен во время родов: десять детей она родила, но выжила одна Анна, что была за Никодимом замужем.
— Люблю я цаек пить, — шамкала беззубым ртом старуха. — Вше детям отдала, а шамоваршик шебе оштавила, — Авдотья расставляла на столе чашки: нарядную и звонкую голубую для себя, простую коричневую — для Валентины. Вроде и дружила Авдотья с Валентиной, а чаем поила всегда из одной и той же глиняной чашки. Правила староверские и у нее были в крови.

Книга Е. Ф. Изюмовой написана на конкретном материале и состоит из четырех разделов. Повесть «Черные крылья смерти» охватывает события довоенных, военных и послевоенных лет. Призванный в годы Великой Отечественной войны защищать Родину, ее герой волею судьбы оказывается в плену. Это рассказ о людях, выстоявших в тяжелых условиях, сохранивших честь и достоинство. Героини «Жемчужного ожерелья, или Повести о поющих душах» связаны одной нитью -~ все они участницы хора «Зоренька» объединения «Дети военного Сталинграда».

Первая книга из цикла "Аттестат зрелости" рассказывающая о трогательном и нелегком пути учеников выпускного класса советской школы по дороге ведущей во взрослую жизнь.

«Иронический детектив» - так определила жанр Евгения Изюмова своей первой повести в трилогии «Смех и грех», которую написала в 1995 году, в 1998 - «Любовь - не картошка», а в 2002 году - «Помоги себе сам».

«Иронический детектив» - так определила жанр Евгения Изюмова своей первой повести в трилогии «Смех и грех», которую написала в 1995 году, в 1998 - «Любовь - не картошка», а в 2002 году - «Помоги себе сам».

«Иронический детектив» - так определила жанр Евгения Изюмова своей первой повести в трилогии «Смех и грех», которую написала в 1995 году, в 1998 - «Любовь - не картошка», а в 2002 году - «Помоги себе сам».

Сборник рассказов для детей, который могут читать и взрослые. Быть может они хоть на миг вернут вас в пору детства когда деревья были еще высокие, а жизнь такая простая…
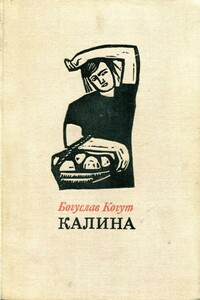
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Обложка не обманывает: женщина живая, бычий череп — настоящий, пробит копьем сколько-то тысяч лет назад в окрестностях Средиземного моря. И все, на что намекает этателесная метафора, в романе Андрея Лещинского действительно есть: жестокие состязания людей и богов, сцены неистового разврата, яркая материальность прошлого, мгновенность настоящего, соблазны и печаль. Найдется и многое другое: компьютерные игры, бандитские разборки, политические интриги, а еще адюльтеры, запои, психозы, стрельба, философия, мифология — и сумасшедший дом, и царский дворец на Крите, и кафе «Сайгон» на Невском, и шумерские тексты, и точная дата гибели нашей Вселенной — в обозримом будущем, кстати сказать.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Главный герой — начинающий писатель, угодив в аспирантуру, окунается в сатирически-абсурдную атмосферу современной университетской лаборатории. Роман поднимает актуальную тему имитации науки, обнажает неприглядную правду о жизни молодых ученых и крушении их высоких стремлений. Они вынуждены либо приспосабливаться, либо бороться с тоталитарной системой, меняющей на ходу правила игры. Их мятеж заведомо обречен. Однако эта битва — лишь тень вечного Армагеддона, в котором добро не может не победить.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.