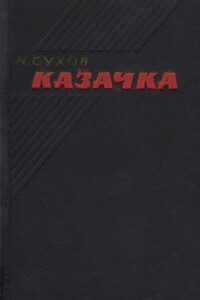Диво дивное, что появились танки не с восточной стороны, откуда их ждали, а с западной!
Над улицей уже навис синеватый туман, пахнувший всякими машинными запахами и заметнее всего бензином; дорога, запорошенная снегом, а местами переметенная, стала уже черной, взрыхленной; а танки, перемежаясь автомашинами, все гремели и гремели, и хуторяне все стояли и дивовались на них.
Не знали хуторяне, да и не могли еще, конечно, знать, что это продвигалось на заданные рубежи, как говорят военные, одно из тех многих войсковых соединений, которые, пройдя по глубоким немецким тылам, заперли отходы, а затем и в прах разгромили огромную немецкую армию, докатившуюся до берегов Волги.
Над Тихоном Ветровым еще несколько дней стаями кружились вороны.
Потом пришел дед Михей с лопатой и ломом в руках, пришли ребята с салазками. Очистили мертвеца от снега, откололи, поддев ломом. И ребята, те самые, что завидовали Тихоновой бензинке, отвезли его за хутор.
***
Через два с половиной года, уже после того, как над рейхстагом Берлина заалел советский победный флаг, вернулась Люба Манскова.
Было ей каких-нибудь два десятка лет, а казалось, что ей уже за тридцать, — так она изменилась, изведав неволю в имении фашистского генерала. Это — в селе Лонау Верхней Силезии, сразу же как переедешь через Одер, если ехать той дорогой, какой везли Любу.
Она-то, Люба Манскова, и передала Годунам, без того убитым горем — о Сергее и поныне ничегошеньки не знали, — грустную весть о Наташе: еще тогда, как их забрали из дома и чуть ли не целый месяц взаперти везли поездом, сутками простаивавшим на иных станциях, затосковала Наташа.
Сделалась она как бы не в себе: ничего не хотела есть и ни о чем не хотела говорить — лежала в углу вагона на мешках, вздрагивала от холода и, уставясь в сучковатую доску, морщась, все глядела, глядела… а забываясь, стонала.
На польской земле, в лагере, куда их, выгрузив из вагонов, предварительно загнали и где сортировали их, Наташа извелась вконец. И на ногах как следует не могла уже держаться. В сумерках она как-то слегла в бреду, а к полуночи спавшая рядом с ней Люба тронула ее, а она уже и голоса не подала…
1937–1947