Дон Жуан. Жизнь и смерть дона Мигеля из Маньяры - [5]
— Если молодой господин таков, то это заслуга падре Грегорио, — подхватила Агриппина.
— А как же иначе? — удивился монах. — Погодите, дети мои, увидите — я сделаю из Мигеля человека!
— Хорошо бы, — сказала Рухела. — Если б не Трифон, этот вельзевул, который делает из мальчика чудовище по своему подобию…
— Молчи! — понизив голос, остановил ее Грегорио. — В доме есть доносчик!
— Вельзевул и есть, и не любит никого, даже господа бога! — стоит на своем старуха. — И сделает он Мигеля таким же бессердечным, как сам. Иссохнет сердце Мигеля, как цветок шафрана в песке. Все-то он сидит за решетками, а как бы хотелось ему поиграть с нашим Педро и крошкой Инес! Но нельзя, все запрещено бедняжке…
Рухела осеклась, ибо на пол кухни пала тень человека, сухого, как жердь. О, это майордомо Марсиано Нарини, воплощенная сухость, засушенная надменнось в камзоле, скелет с лицом трупного цвета.
— Приготовления идут как надо? — проскрипел иссушенный голос.
— Да, ваша милость, все идет как надо, — отвечают все хором, провожая ненавидящими взглядами графского погонялу.
Перед доном Томасом, падре Грегорио и майордомо — арабский скакун.
— Что скажешь, падре? — спрашивает граф.
Глаза Грегорио светятся восхищением.
— Не может быть лучшего подарка к рождению Мигеля, ваша милость. Этот конь подобен солнечному лучу. У него петушиная поступь. Сухожилия напряжены, как тетива лука.
Падре ходит вокруг вороного коня, с чувственным наслаждением поглаживает его блестящую шерсть.
— А ты, Марсиано?
Сухой майордомо вспыхнул свечой, ибо испанец и на смертном одре испытывает такую же страстную любовь к лошади, как к собственной жизни.
— Великолепное животное, ваша милость.
Монах наклоняется к графу Томасу, шепчет:
— Дон Мигель должен время от времени читать перед сном этому красавцу на ухо шестьдесят шестую суру Корана. Тогда конь будет предан ему, как собака.
— Но ведь тогда ему придется говорить по-арабски? — удивляется дон Томас.
— Разве я не обучаю его этому языку? — гордо отвечает Грегорио. — Спросите у него сами, ваша милость.
— Добрый совет, — говорит граф, внезапно рассмеявшись. — И его даешь ты? Христианин и монах?
Мягко улыбнулся Грегорио:
— Ваша милость, я, правда, христианин, зато конь — араб и язычник.
Смеясь, дон Томас приветливо посмотрел на монаха.
Спальня графского сына.
Широкое ложе под балдахином, с сеткой от москитов? Колышущаяся ладья снов, блаженства, детских радостей? Кружевная укромность, пуховая мягкость?
Нет, о, нет. Жесткое ложе, стол, сундук с книгами, Скамеечка для коленопреклонений, распятие и — постоянный сумрак за спущенными занавесами. Окно за решеткой.
В келье Мигеля сидит за столом падре Трифон. Тощий, низкорослый человек, костлявое, бледное, скуластое лицо. Жгуче-пронзительные глаза неопределенного цвета, тонкие бескровные губы. Падре Трифон — член братства Иисусова; за фанатическую приверженность вере и рвение в делах церкви сам архиепископ Севильский, дон Викторио де Лареда, рекомендовал его в наставники Мигелю.
Падре Трифон держит в руке Священное писание.
— Отвертись себя, и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Вам это ясно, дон Мигель?
— Нет, — отзывается тихий голос из самого темного угла.
Там, съежившись, сидит на скамье юный граф Маньяра. Обхватив колени руками, он поднимает к учителю бледное лицо и вперяет в него пылающие глаза.
— Что же вам неясно? — вопрошает Трифон.
О, этот холодный, этот режущий голос! Мигелю он напоминает звук, с каким скребет по камню нож или камень по железной посудине.
— Мне непонятны слова: «Отрекись от себя самого», — тихо отвечает мальчик.
— Отречься от себя самого — значит презреть свои прихоти, страсти и потребности. Любовь и ненависть, богатство, голод и жажду. Все от себя отринуть, учит Иисус. Покинуть все, задушить в себе все чувства. Вы меня слушаете, дон Мигель?
— Я задумался, падре, — склоняя голову, сознается юный граф. — Я вспомнил о ладье с подарками от дяди, о ладье из Нового Света — она пристанет, вероятно, завтра. Простите, падре.
— На моих лекциях вы не должны думать ни о чем, кроме бога, — скрипит голос Трифона. — Прошу вас; будьте внимательны: в каждом человеке с рождения заложены добро и зло. Ваша задача — подавить в себе все злое.
— В матушке моей — тоже добро и зло? — внезапно спрашивает мальчик.
— Безусловно. Как в каждом из нас.
— Нет! — рвется из груди Мигеля; он вскакивает. — В матушке нет зла. Моя мать — святая. Она нежна и бела, как Мадонна.
— Остановитесь! — повышает строгий голос Трифон. — Вы кощунствуете! Ваша мать превосходная женщина, но не смейте ставить ее выше пресвятой девы! Это тяжкий грех. Первый долг наш — любить бога, чтить бога и защищать бога.
— Простите, — упавшим голосом произносит мальчик, садясь под зарешеченное окно.
— В вас, в душе вашей много гордыни, дон Мигель. Много строптивости и горячности. Бог же любит смирение. Назначаю вам заучить завтра Евангелие от Матфея, от главы шестнадцатой по девятнадцатую.
— Но завтра день моего рождения, падре, — несмело возражает мальчик.
— Тем лучше. Восславим этот день чтением святой книги, — сухо бросает священник, уходя. — Бог да пребудет с вами, ваша милость.
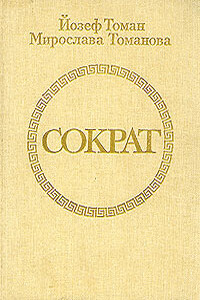
Йозеф Томан (1899–1977) – известный чешский писатель, автор исторических романов, два из которых – «Дон Жуан» (1944) и «После нас хоть потоп» (1963) – переведены на русский язык. Мирослава Томанова (р. в 1906 г.) – чешская писательница, знакомая советскому читателю как автор романа «Серебряная равнина» (1970) и «Размышления о неизвестном» (1974).В романе, посвященном знаменитому древнегреческому философу Сократу, создана широкая панорама общественной жизни афинского полиса во времена его расцвета и упадка.
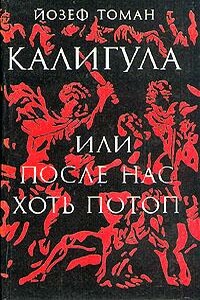
Перед вами интереснейший художественный роман классика чешской литературы Йозефа Томана "Калигула, или После нас хоть потоп". Этот роман посвящен жизни и политическим деяниям римского императора Калигулы, фигуры далеко неоднозначной, как показала история. Остросюжетный, динамичный роман изобилует хитроумными дворцовыми интригами и откровенными любовными сценами.

Рассказ о первой организованной массовой рабочей стачке в 1885 году а городе Орехово-Зуеве под руководством рабочих Петра Моисеенко и Василия Волкова. Для младшего школьного возраста.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
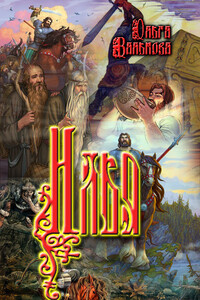
Роман по мотивам русских былин Киевского цикла. Прошло уже более ста лет с тех пор, как Владимир I крестил Русь. Но сто лет — очень маленький срок для жизни народа. Отторгнутое язычество еще живо — и мстит. Илья Муромец, наделенный и силой свыше, от ангелов Господних, и древней силой от богатыря Святогора, стоит на границе двух миров.
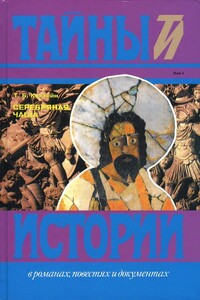
Действие романа относится к I веку н. э. — времени становления христианства; события, полные драматизма, описываемые в нем, связаны с чашей, из которой пил Иисус во время тайной вечери, а среди участников событий — и святые апостолы. Главный герой — молодой скульптор из Антиохии Василий. Врач Лука, известный нам как апостол Лука, приводит его в дом Иосифа Аримафейского, где хранится чаша, из которой пил сам Христос во время последней вечери с апостолами. Василию заказывают оправу для святой чаши — так начинается одиссея скульптора и чаши, которых преследуют фанатики-иудеи и римляне.
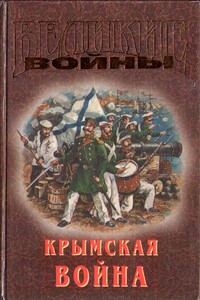
Данная книга посвящена истории Крымской войны, которая в широких читательских кругах запомнилась знаменитой «Севастопольской страдой». Это не совсем точно. Как теперь установлено, то была, по сути, война России со всем тогдашним цивилизованным миром. Россию хотели отбросить в Азию, но это не удалось. В книге представлены документы и мемуары, в том числе иностранные, роман писателя С. Сергеева-Ценского, а также повесть писателя С. Семанова о канцлере М. Горчакове, 200-летие которого широко отмечалось в России в 1998 году. В сборнике: Сергеев-Ценский Серг.
