Доминик - [25]
На другой день после ее отъезда я поспешил на улицу Кармелиток. Комнатка Оливье была в глубине высокой пристройки, примыкавшей к особняку. Обычно я заходил за Оливье перед началом занятий и звал его, стоя в саду под окном. Теперь мне вспомнилось, что в этот час почти всегда мне отвечал еще один голос, что Мадлен показывалась в окне своей комнаты и здоровалась со мною; я подумал о волнении, которое последнее время доставляла мне эта ежедневная встреча, когда-то ничем меня не пленявшая и ничем не опасная, а теперь превратившаяся в сущую муку; и я вошел смело, почти радуясь, словно какая-то часть моего существа, прежде жившая в страхе и под надзором, вдруг получила свободу.
Дом был пуст. Слуги бродили как неприкаянные; казалось, они тоже удивляются тому, что больше не нужно держать себя в узде. Окна были растворены, и майское солнце свободно резвилось в комнатах, где все предметы стояли строго по своим местам. Не запустение чувствовалось здесь, а отсутствие. Я вздохнул. Я подсчитал, сколько времени оно продлится. Два месяца! То мне казалось, что это очень много, то – что очень мало. Кажется, я готов был желать, чтобы эта недолгая отсрочка тянулась без конца, – настолько остро ощущал я потребность принадлежать самому себе.
Я вернулся назавтра, стал бывать там каждый день; все то же безмолвие и все та же безопасность. Я обошел весь дом, исходил весь сад, аллею за аллеей; Мадлен была повсюду. Я осмелел настолько, что был в состоянии свободно перебирать воспоминания о ней. Я поглядел на ее окно и увидел ее милую головку. В аллеях сада я услышал ее голос и замурлыкал себе под нос, пытаясь воспроизвести как бы эхо знакомых романсов, которые она любила петь на вольном воздухе, потому что ветер придавал звукам особую легкость, а шум листьев служил аккомпанементом. Я увидел заново множество ее черточек, к которым прежде не присматривался либо оставался равнодушным, характерные движения, прежде ничем не приметные, а теперь исполнившиеся прелести; мне показалась пленительной чуть небрежная манера закручивать волосы узлом, подколотым на затылке и перехваченным посередине лентой, словно черный сноп. Самые незначительные особенности ее наряда или ее движений, ее любимые духи с экзотическим запахом, но которому я узнал бы ее с закрытыми глазами, все, вплоть до предпочтения, которое она с недавних пор стала отдавать некоторым тонам, в особенности синему, так ей шедшему и так выгодно оттенявшему безукоризненную белизну кожи, – все это оживало в моей памяти с удивительной явственностью, но вызывало совсем другие чувства, нежели присутствие Мадлен; скорее то было сожаление о чем-то дорогом и далеком, и упиваться этим сожалением было приятно.
Мало-помалу я весь проникся этими воспоминаниями, не столько пылкими, сколько исполненными бесконечной нежности, ведь они были единственным почти живым очарованием, которое осталось мне от Мадлен; и менее двух недель спустя после отъезда д'Орселей образ Мадлен сделался вездесущим, неотлучно сопровождая меня повсюду.
Как-то вечером я решил подняться к Оливье и, как всегда, должен был пройти мимо комнаты Мадлен. Мне уже случалось видеть, что дверь в эту комнату распахнута настежь, но никогда еще и в голову не приходило, что я могу туда войти. В тот вечер я остановился перед дверью как вкопанный и после некоторого колебания, вызванного сомнениями, которые были мне столь же внове, что и все прочие чувства, меня одолевавшие, я поддался искушению, ибо то было настоящее искушение, и вошел в комнату Мадлен.
Там уже стоял полумрак. Темное дерево старинной мебели было еле различимо, золото маркетри слабо поблескивало. Драпировка сдержанных тонов, все предметы убранства, приглушенные и мягкие по цвету, колышущиеся кисейные занавески – все это словно наполняло комнату легким сумраком и белизной, которые располагали к полнейшему покою, полнейшей сосредоточенности. В растворенное окно вливался теплый воздух, пронизанный ароматами цветущего сада, но в комнате жил еще один запах, чуть ощутимый, и я вдыхаю его с. большим волнением, чем остальные, ибо он настойчиво напоминал о Мадлен. Я подошел к окну: здесь было место Мадлен, я опустился в креслице с низкой спинкой, в котором она обычно сидела. В этом креслице я просидел несколько минут; мучительная тревога владела всем моим существом, но меня удерживало на месте желание насладиться этими впечатлениями, столь пленительными своей новизной. Я ни на что не смотрел, ни за какие блага в мире не решился бы притронуться к самой пустячной безделушке. Я не двигался, отдавшись полностью этому нескромному волнению, и сердце мое билось так учащенно, так судорожно, так громко, что я прижал обе ладони к груди, силясь заглушить, сколько возможно, этот смятенный стук.
Вдруг в коридоре послышались быстрые и четкие шаги Оливье. Я едва успел выскользнуть из комнаты, он уже был у самой двери.
– Я ждал тебя, – проговорил он тоном, достаточно безразличным, чтобы убедить меня, что он не видел, как я выходил из комнаты Мадлен, либо не находил в этом ничего предосудительного.
Одет он был легко и очень элегантно: галстук повязан чуть небрежно, просторный костюм – он любил носить такие, особенно летом. Уверенность походки, непринужденность движений в этом свободном платье придавали ему порою чрезвычайно своеобразный вид молодого иностранца, то ли англичанина, то ли креола. Такую манеру одеваться он избрал, руководствуясь инстинктивным и безошибочным вкусом. В своих костюмах он обретал особое, одному ему присущее изящество; и я, как человек, знающий вполне и достоинства его, и слабости, не могу сказать, что одежда его была претенциозна, хоть он занимался ею с величайшей серьезностью. Подбор принадлежностей, оттенков, соразмерность частей костюма – все это он почитал делом немаловажным в общей системе поведения человека хорошего тона; но одобрив тот или иной наряд, уже не возвращался к мыслям о нем, и предположить, что он уделяет одежде больше внимания, чем нужно, чтобы обдумать ее со всей изобретательностью, значило бы оскорбить его.
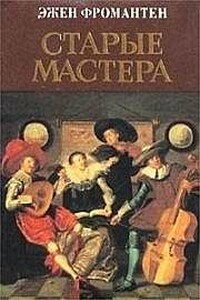
Книга написана французским художником и писателем Эженом Фромантеном (1820–1876) на основе впечатлений от посещения художественных собраний Бельгии и Голландии. В книге, ставшей блестящим образцом искусствоведческой прозы XIX века, тонко и многосторонне анализируется творчество живописцев северной школы — Яна ван Эйка, Мемлинга, Рубенса, Рембрандта, «малых голландцев». В книге около 30 цветных иллюстраций.Для специалистов и любителей изобразительного искусства.

Книга представляет собой путевой дневник писателя, художника и искусствоведа Эжена Фромантена (1820–1876), адресованный другу. Автор описывает свое путешествие из Медеа в Лагуат. Для произведения характерно образное описание ландшафта, населенных пунктов и климатических условий Сахары.
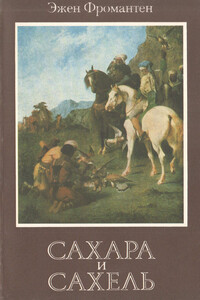
В однотомник путевых дневников известного французского писателя, художника и искусствоведа Эжена Фромантена (1820–1876) вошли две его книги — «Одно лето в Сахаре» и «Год в Сахеле». Основной материал для своих книг Фромантен собрал в 1852–1853 гг., когда ему удалось побывать в тех районах Алжира, которые до него не посещал ни один художник-европеец. Литературное мастерство Фромантена, получившее у него на родине высокую оценку таких авторитетов, как Теофиль Готье и Жорж Санд, в не меньшей степени, чем его искусство живописца-ориенталиста, продолжателя традиций великого Эжена Делакруа, обеспечило ему видное место в культуре Франции прошлого столетия. Книга иллюстрирована репродукциями с картин и рисунков Э. Фромантена.

Творчество Жорж Санд не нуждается в представлении, ее романами зачитывались еще наши бабушки и дедушки. В числе горячих поклонников ее таланта — Салтыков-Щедрин, Достоевский, Тургенев. Жорж Санд — редкий мастер занимательного сюжета, построенного обычно вокруг сложной психологической загадки.Романы, включенные в этот сборник, относятся к прекрасным образцам ее лирико-романтической прозы и несомненно доставят нашему читателю радость открытия: ни один из включенных в книгу романов не публиковался на русском языке после 1911 года.Рассчитана на массового читателя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
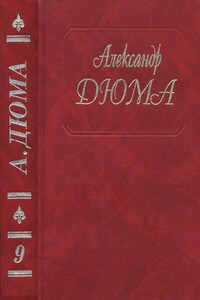
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Белая и Серая леди, дамы в красном и черном, призрачные лорды и епископы, короли и королевы — истории о привидениях знакомы нам по романам, леденящим душу фильмам ужасов, легендам и сказкам. Но однажды все эти сущности сходят с экранов и врываются в мир живых. Бесплотные тени, души умерших, незримые стражи и злые духи. Спасители и дорожные фантомы, призрачные воинства и духи старых кладбищ — кто они? И кем были когда-то?..
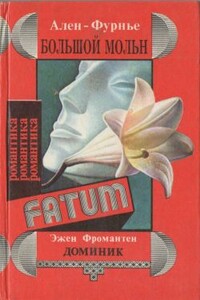
«Большой Мольн» (1913) — шедевр французской литературы. Верность себе, благородство помыслов и порывов юности, романтическое восприятие бытия были и останутся, без сомнения, спутниками расцветающей жизни. А без умения жертвовать собой во имя исповедуемых тобой идеалов невозможна и подлинная нежность — основа основ взаимоотношений между людьми. Такие принципы не могут не иметь налета сентиментальности, но разве без нее возможна не только в литературе, но и в жизни несчастная любовь, вынужденная разлука с возлюбленным.
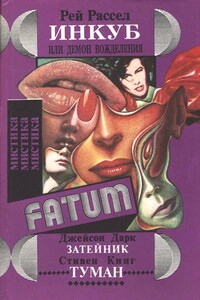
Человек-зверь, словно восставший из преисподней, сеет смерть в одном из бразильских городов. Колоссальные усилия, мужество и смекалку проявляют специалисты по нечистой силе международного класса из Скотланд-Ярда Джон Синклер и инспектор Сьюко, чтобы прекратить кровавые превращения Затейника.