Дом веселого чародея - [3]
Гость балдел стремительно.
Он пытался сохранить вид столичного превосходства, но где же! Еще в Петербурге, вдоволь наслушавшись о тысячных гонорарах знаменитого артиста, сейчас своими глазами видел подлинное богатство, и увиденное поразило: это уже были не слухи, не анекдоты, не досужая выдумка. Это было то, перед чем хотелось и надлежало благоговеть. Форс столичного литератора улетучивался с каждой минутой, все более появлялась, черт возьми, даже робость какая-то…
В тесноте невероятной кругом обступали очень дорогие вещи, одна дороже другой: китайские вазы, мраморные статуи, картины, гобелены, старинное оружие, антикварная мебель…
– Все подлинное, милочка… все подлинное, – небрежно вскользь бросал Дуров. – Подделок не ищи. Из дворца эмира бухарского, – кивал на какое-то тончайше разузоренное чудо. – А вот – из коллекции гофмейстера диора его величества, по случаю… Пять с половиной отдал, считай, задаром! Это, – ласково погладил бронзового мальчишку с крылышками, – это Кано́ва… Чувствуешь, милочка? Канова! Настоящий, заметь… Семь с чем-то, дороговато, конечно, но – каков? Вечное, братец! Цены такому нет! О жалких презренных деньгах – можно ли говорить!
Неловко поворотясь, гость задел шаткую тумбочку. Гигантская ваза с портретом Наполеона качнулась, накренилась, готова была грохнуть на пол. Дуров ловко подхватил ее.
– Извини, – сказал, – ералаш, кутерьма… Никак не выберу время разобрать, навести порядок. Вот погоди, задумал каталог напечатать, тогда…
Он говорил стремительно, часто мигая, часто взглядывая на перстень почему-то; слова неслись вскачь, обрывая мысль, перескакивая на другое. Что – т о г д а – так и осталось неизвестным. Но радовался гостю искренно. Может быть, не столько гостю – милому человеку, другу, собеседнику, сколько занимательному объекту для наблюдений. И даже как-то по-детски: новая, незнакомая игрушка – какова она? Из чего сделана? А что внутри?
В алом, с золотыми разводами халате, в азиятской, шитой бисером мурмолке – был олицетвореньем здоровья и красоты. От него пахло свежестью реки, купаньем. Б. Б. вспомнил влажное мохнатое полотенце, брошенное на перила веранды. Да и халат, кажется, накинут не на белье, а на голое крепкое тело с нежным речным загаром.
– Купались, если не ошибаюсь? – осведомился Б. Б.
– И тебе советую сейчас, перед обедом.
– Как – перед обедом? – удивился Б. Б. – Да ведь всего первый час…
– А мы, знаешь, по-деревенски. С солнышком подымаемся. Вот, прошу…
Обняв, повел гостя на веранду.
– Сюда, вниз по лестнице, в конце сада калитка… во-он видишь – купальня. Но в час, без опозданья – к столу! Адье! Да! – словно вспомнив что-то, захохотал вдогонку. – Смотри, моншер, осторожней: в реке – крокодил!
– Какой крокодил? – оторопел Б. Б.
Но голос хозяина слышался уже где-то в глубине дома:
– Клементьич! – звал. – Кле-мен-тьич! Опять рыбкам корму не задал… Ах, бестия! Ах, лежебока!
Два бронзовых гения, несущие светочи, венчали белые каменные башенки садовых ворот. Длинная лестница четырьмя уступами спускалась вниз, к зеленому лугу. Под полуденным солнцем река сверкала многочисленными старицами и заливами. Шустрые лодочки чернели. Медленным, добродушным чудищем плыл плот; тонкой синей струйкой костерок на нем дымился; мужик-кашевар кого-то невидимого крыл сиплым матерком. Гуси у воды топтались, щелкая клювами, шарили в илистом берегу, бормотали вполголоса, как бы осуждающе: ах, мужик! Ах, матерщинник!
Тут был дощатый мосток, в конце которого, кокетливая, белела вышка с площадкой для обозренья, приглашала взойти на нее, посидеть на деревянном диванчике, предаться мечтам и размышленьям. Или того лучше: прыгнуть в искрящуюся серебряными пятачками синюю воду, ахнуть от восторга, шумно заплыть на середину, озоруя, вскарабкаться на склизкие бревна плота…
Нет, что вы! Б. Б. не отважился бы на подобное. Первое – что он и плавать-то не умел, а второе: коренной петербуржец, всю жизнь ужасно боялся простуды. И наконец, что за шутка с крокодилом? Да и шутка ли? В этом фантастическом уголке все возможно. Карла в феске, чертов пеликан, зубастая пасть Гаргантюа… (Вспомнил! Вот именно, старая книжка с картинками Гюстава Доре…) «Замашки литературного критика»! А ведь больно тяпнула уродина… Почему бы и крокодилу не обитать в воронежских владениях господина Дурова?! Вон мумию фараонову показывал, тоже ведь египетская, с берегов Нила…
Нагнувшись, опасливо заглянул под доски мостка: стайка мальков промелькнула в бутылочно-зеленой глубине, окурок медленно проплыл, мохнатые кустики водорослей слабо, сонно шевелились у черной сваи…
Крокодил отсутствовал.
– Уронили что-нибудь? – участливый голос послышался откуда-то сверху, как бы с лазоревых небес.
Б. Б. вздрогнул. На верхней площадке вышки, облокотясь на решетчатые перильца, стоял вполне приличный господин в белом полотняном картузике, в легком чесучовом кительке, с любезной, но строгой физиономией, каким-то странным, непонятным образом выдававшей в нем человека военного, военную косточку.
Что ни говорите, Б. Б. все-таки был литератором.
– Нет, ничего, благодарствуйте, – сказал он.

Уголовный роман замечательных воронежских писателей В. Кораблинова и Ю. Гончарова.«… Вскоре им попались навстречу ребятишки. Они шли с мешком – собирать желуди для свиней, но, увидев пойманное чудовище, позабыли про дело и побежали следом. Затем к шествию присоединились какие-то женщины, возвращавшиеся из магазина в лесной поселок, затем совхозные лесорубы, Сигизмунд с Ермолаем и Дуськой, – словом, при входе в село Жорка и его полонянин были окружены уже довольно многолюдной толпой, изумленно и злобно разглядывавшей дикого человека, как все решили, убийцу учителя Извалова.

«…– Не просто пожар, не просто! Это явный поджог, чтобы замаскировать убийство! Погиб Афанасий Трифоныч Мязин…– Кто?! – Костя сбросил с себя простыню и сел на диване.– Мязин, изобретатель…– Что ты говоришь? Не может быть! – вскричал Костя, хотя постоянно твердил, что такую фразу следователь должен забыть: возможно все, даже самое невероятное, фантастическое.– Представь! И как тонко подстроено! Выглядит совсем как несчастный случай – будто бы дом загорелся по вине самого Мязина, изнутри, а он не смог выбраться, задохнулся в дыму.
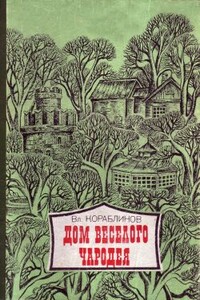
«… Валиади глядел в черноту осенней ночи, думал.Итак?Итак, что же будет дальше? Лизе станет лучше, и тогда… Но станет ли – вот вопрос. Сегодня, копая яму, упаковывая картины, он то и дело заглядывал к ней, и все было то же: короткая утренняя передышка сменилась снова жестоким жаром.Так есть ли смысл ждать улучшения? Разумно ли откладывать отъезд? Что толку в Лизином выздоровлении, если город к тому времени будет сдан, если они окажутся в неволе? А ведь спокойно-то рассудить – не все ли равно, лежать Лизе дома или в вагоне? Ну, разумеется, там и духота, и тряска, и сквозняки – все это очень плохо, но… рабство-то ведь еще хуже! Конечно, немцы, возможно, и не причинят ему зла: как-никак, он художник, кюнстлер, так сказать… «Экой дурень! – тут же обругал себя Валиади. – Ведь придумал же: кюнстлер! Никакой ты, брат, не кюнстлер, ты – русский художник, и этого забывать не следует ни при каких, пусть даже самых тяжелых, обстоятельствах!»Итак? …»Повесть также издавалась под названием «Русский художник».
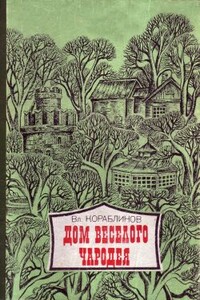
«… Наконец загремела щеколда, дверь распахнулась. Кутаясь в старенький серый платок, перед Мочаловым стояла довольно высокая, худощавая женщина. На сероватом, нездоровом лице резко чернели неаккуратно подведенные брови. Из-под платка выбивались, видно еще не причесанные, черные волосы. Синяя бархотка на белой худенькой шее должна была придать женщине вид кокетливой игривости. Болезненность и страдание провели множество тонких, как надтреснутое стекло, морщинок возле рта, на щеках. Все в ней было жалко и нехорошо.
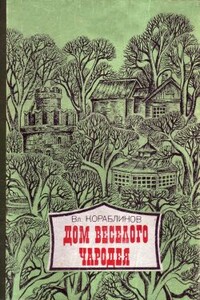
«… На реке Воронеже, по крутым зеленым холмам раскинулось древнее село Чертовицкое, а по краям его – две горы.Лет двести, а то и триста назад на одной из них жил боярский сын Гаврила Чертовкин. Много позднее на другой горе, версты на полторы повыше чертовкиной вотчины, обосновался лесной промышленник по фамилии Барков. Ни тот, ни другой ничем замечательны не были: Чертовкин дармоедничал на мужицком хребту, Барков плоты вязал, но горы, на которых жили эти люди, так с тех давних пор и назывались по ним: одна – Чертовкина, а другая – Баркова.
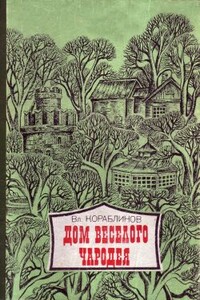
«… Со стародавних времен прижился у нас такой неписаный закон, что гениям все дозволено. Это, мол, личности исключительные, у них и психика особенная, и в силу этой «особенной» психики им и надлежит прощать то, что другим ни в коем случае не прощается.Когда иной раз заспорят на эту тему, то защитники неприкосновенности гениев обязательно приводят в пример анекдоты из жизни разных знаменитых людей. Очень любопытно, что большая часть подобных анекдотов связана с пьяными похождениями знаменитостей или какими-нибудь эксцентричными поступками, зачастую граничащими с обыкновенным хулиганством.И вот мне вспоминается одна простенькая история, в которой, правда, нет гениев в общепринятом смысле, а все обыкновенные люди.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые — журн. «Новый мир», 1928, № 11. При жизни писателя включался в изд.: Недра, 11, и Гослитиздат. 1934–1936, 3. Печатается по тексту: Гослитиздат. 1934–1936, 3.

Василий Журавлев-Печорский пишет о Севере, о природе, о рыбаках, охотниках — людях, живущих, как принято говорить, в единстве с природой. В настоящую книгу вошли повести «Летят голубаны», «Пути-дороги, Черныш», «Здравствуй, Синегория», «Федькины угодья», «Птицы возвращаются домой». Эта книга о моральных ценностях, о северной земле, ее людях, богатствах природы. Она поможет читателям узнать Север и усвоить черты бережного, совестливого отношения к природе.
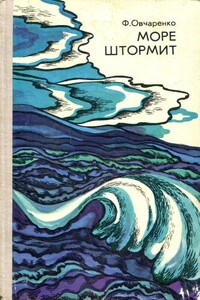
В книгу известного журналиста, комсомольского организатора, прошедшего путь редактора молодежной свердловской газеты «На смену!», заместителя главного редактора «Комсомольской правды», инструктора ЦК КПСС, главного редактора журнала «Молодая гвардия», включены документальная повесть и рассказы о духовной преемственности различных поколений нашего общества, — поколений бойцов, о высокой гражданственности нашей молодежи. Книга посвящена 60-летию ВЛКСМ.
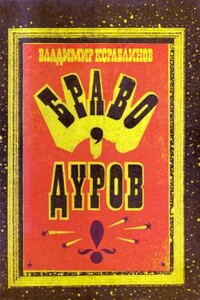
«… Все, что с ним происходило в эти считанные перед смертью дни и ночи, он называл про себя мариупольской комедией.Она началась с того гниловатого, слякотного вечера, когда, придя в цирк и уже собираясь облачиться в свой великолепный шутовской балахон, он почувствовал неодолимое отвращение ко всему – к мариупольской, похожей на какую-то дурную болезнь, зиме, к дырявому шапито жулика Максимюка, к тусклому мерцанью электрических горящих вполнакала ламп, к собственной своей патриотической репризе на злобу дня, о войне, с идиотским рефреном...Отвратительными показались и тишина в конюшне, и что-то слишком уж чистый, не свойственный цирковому помещению воздух, словно сроду ни зверей тут не водилось никаких, ни собак, ни лошадей, а только одна лишь промозглость в пустых стойлах и клетках, да влажный ветер, нахально гуляющий по всему грязному балагану.И вот, когда запиликал и застучал в барабан жалкий еврейский оркестрик, когда пистолетным выстрелом хлопнул на манеже шамбарьер юного Аполлоноса и началось представление, – он сердито отшвырнул в угол свое парчовое одеянье и малиновую ленту с орденами, медалями и блестящими жетонами (они жалобно зазвенели, падая) и, надев пальто и шляпу, решительно зашагал к выходу.
