Дом толкователя - [4]
Вопрос о поэтической семантике Жуковского следует рассматривать в связи с романтической идеологией, исповедуемой и проповедуемой поэтом. Для Жуковского слово, конечно, не исчерпывается богатством психологических обертонов, превращающих его в музыкальную ноту. Поэтически изображая свою душевную жизнь, он менее всего стремится к психологическому самовыражению. Напротив, по его убеждению, чем глубже поэт проникает в собственную душу, тем ближе оказывается к объективной, универсальной правде мира. Поэзия для Жуковского и является способом постижения и выражения этой объективной, божественной истины. Отсюда уже с середины 1810-х годов (время, когда оформляются его эстетические убеждения) его поэтическое слово не только «психологично», «одушевленно» (Гуковский: 42–43), но и «мистично»: оно приоткрывает «повсеместное присутствие Создателя в созданьи», связывает воедино идеи жизненного и духовного пути человека, человека и природы, наконец, поэзии и смерти как перехода в новое, высшее состояние. В конечном счете оно стремится к тому, чтобы выразить не чувства, не душу и не мечту вообще, но идею, «могущественно владеющую душою поэта», причем «не одну собственную, человеческую идею, не одну свою душу, но в ней и идею Создателя, дух Божий, все созданное проницающий» (Жуковский 1985: 332–333). Поэтому имеет смысл говорить о многослойности такого поэтического слова, предполагающего единство психологического, биографического, этического, эстетического и мистического планов.
О Жуковском вполне можно сказать, что и он в словах точен. Его поэзия идеологична, и за внешней семантической размытостью слова стоит ясная и строгая мысль, обеспечивающая смысловое единство образа. Ассоциативные планы такого слова — своего рода лики или отблески лежащей в его основе идеи. Так, образ «легкого ветерка» из знаменитого стихотворения 1816 года означает и «реальный» ветерок, дуновение которого приятно человеку, и возвращение весны, обновляющей, животворящей душу, и весть горнего мира, открывающегося вдруг человеку, и «дух поэзии», пробуждающий к жизни вдохновение и любовь, и, наконец, проникновение Святого Духа в человеческое сердце — тот самый «дух хлада тонкий», ведущий за собой «прибой благодати» (Durchbruch der Gnade), о котором так много говорили пиетисты и мистики начала XIX века.
На этом последнем уровне прочтения образа становится ясной идейная связь между веянием ветерка, весною, пробуждением души, небесами, знакомой вестью и «очарованным там». «Весеннее чувство» — это не просто особое «психологическое переживание». Это, используя выражение самого поэта, «синоним» религиозного чувства. Стихотворение приобретает характер «тайного» обращения к Божеству в момент мгновенного (дуновение ветерка) откровения. Оно становится своеобразной поэтической молитвой, в которой сливаются в один лирический порыв к запредельному миру все образы, чувства и ассоциации[10]. Исследователи датируют это стихотворение апрелем 1816 года. Похоже, что оно выражает не абстрактное «весеннее чувство поэта» (Жуковский: II, 449), но переживание пасхальное (поэтический аналог пасхального песнопения, славящего желанный и святой день, двери рая открывший). Описание весеннего воскрешения природы и пробуждения души, слышащей «весть знакомую», получает таким образом религиозно-календарное оправдание. Метафизическим комментарием post factum к этому стихотворению может служить дневниковая запись поэта от 11 (23) апреля 1821 года, посвященная утру после Светлого Воскресенья: «…чувствуешь <…> пробуждение! <…> По-настоящему чувствуешь только самого себя и в физической и в нравственной природе! <…> Это всеобщее смешанное жужжание (которое так живо и пленительно весною) кажется всеобщею молитвою <…>» (Жуковский: XIII, 164–165)[11].
Перед нами не что иное, как попытка создания символической христианской поэзии, вписывающаяся в ряд аналогичных экспериментов европейских романтиков (в литературе — Новалис, Брентано, Вордсворт, Ламартин; в живописи — Фридрих и «назарейцы»). О программном опыте создания религиозной поэзии, соединяющей и примиряющей самые разные читательские группы в акте чтения, речь пойдет в Прологе к предлагаемому исследованию («Поэтическая семантика Жуковского, или Рассуждение о вкусе и смысле „Овсяного киселя“»).
Слово Жуковского не только идеологично. Оно еще и исторично в том смысле, что несет информацию о переживаемом поэтом моменте как личной, так и исторической жизни, точнее, жизни духа, раскрываемой в истории человеческой. Так, казалось бы, сугубо лирическое «Весеннее чувство» — с его нетерпеливым стремлением к «краю желанного» и поисками вожатого в «очарованное там» — резонирует со стихотворениями того же времени на тему ожидания великого пробуждения и обновления мира:
[Жуковский: II, 49–50]
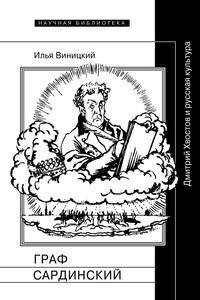
В настоящей монографии исследуются творчество и аспекты биографии мастера русского слова графа Дмитрия Ивановича Хвостова – его авторские травмы и практики, творческие стимулы и повседневные тактики, его пародическая личность и политическая идентичность в историческом разрезе и в контексте формирования русской поэзии. Автор, отталкиваясь от культурно-антропологического подхода, уравнивающего великих творцов и тех, кто способен лишь на забавные безделушки, доказывает, что только у такого народа, у которого есть Пушкин, мог появиться такой поэт, как Хвостов.

В работе изучается до настоящего времени мало исследованная деятельность императора восточной части Римской империи Лициния (308–324 гг.) на начальном этапе исторического перелома: перехода от языческой государственности к христианской, от Античности к Средневековью. Рассмотрены религиозная политика Лициния и две войны с императором Константином I Великим.Книга может быть полезна специалистам, а также широкому кругу читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Генерал М.К. Дитерихс (1874–1937) – активный участник Русско-японской и Первой мировой войн, а также многих событий Гражданской войны в России. Летом 1922 года на Земском соборе во Владивостоке Дитерихс был избран правителем Приморья и воеводой Земской рати. Дитерихс сыграл важную роль в расследовании преступления, совершенного в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, – убийства Царской Семьи. Его книга об этом злодеянии еще при жизни автора стала библиографической редкостью. Дитерихс первым пришел к выводу, что цареубийство произошло из-за глубокого раскола власти и общества, отсутствия чувства государственности и патриотизма у так называемой общественности, у «бояр-западников».

Фредерик Лейн – авторитетный американский исследователь – посвятил свой труд истории Венеции с самого ее основания в VI веке. Это рассказ о взлете и падении одной из первых европейских империй – уникальной в своем роде благодаря особому местоположению. Мореплавание, морские войны, государственное устройство, торговля, финансы, экономика, религия, искусство и ремесла – вот неполный перечень тем, которые рассматривает автор, представляя читателю образ блистательной Венецианской республики. Его также интересует повседневная жизнь венецианцев, политика, демография и многое другое, включая мифы, легенды и народные предания, которые чрезвычайно оживляют сухой перечень фактов и дат.

Мистикой и тайной окутаны любые истории, связанные с эсэсовскими замками. А отсутствие достоверной информации порождало и порождает самые фантастические версии и предположения. Полагают, например, что таких замков было множество. На самом деле только два замковых строения имели для СС ритуальный характер: собор Кведлинбурга и замок Вевельсбург. После войны молва стала наделять Вевельсбург дурной славой места, где происходят таинственные и даже жуткие истории. Он превратился в место паломничества правых эзотериков, которые надеялись найти здесь «центр силы», дарующий если не власть, то хотя бы исключительные таланты и способности.На чем основаны эти слухи и что за ними стоит — читайте в книге признанного специалиста по Третьему рейху Андрея Васильченко.

В своей новой книге «Преступления без наказания» Анатолий Терещенко вместе с человеком, умудренным опытом – Умником, анализирует и разбирает некоторые нежелательные и опасные явления для России, которая в XX веке претерпела страшные военно-политические и социально-экономические грозы, связанные с войнами, революциями, а также развал Советского Союза и последовавшие затем негативные моменты, влияющие на российское общество: это глубокая коррупция и масштабное воровство, обман и пустые обещания чиновников, некомпетентность и опасное кумовство.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.